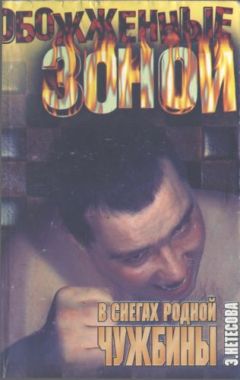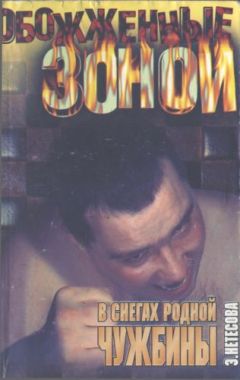Шмары, сжалившись, поили ее вином, успокаивая, что через эти муки прошли они все.
Выкидыш случился лишь на третий день. Тонька потеряла много сил и крови. Целых две недели не могла встать с постели. Коршун ни разу не навестил. Его она увидела мельком. В темноте. Он вышел из такси, держа за талию новую подругу. Та, млея от счастья, положила ему голову на плечо.
Тонька окликнула. Коршун оглянулся. Увидел. Но, сделав вид, что не узнал, поспешил исчезнуть вместе со шмарой.
Вонючка не стала нагонять. Она поняла все. И возненавидела законника навсегда, понимая, что не сможет отплатить ему за перенесенное…
— Детей не будет? Это кто тебе про это накукарекал? — спросил старик.
— Бабы на Сезонке говорили: мол, кто первую беременность убил, больше не будет иметь детей. Никогда…
— Бабы? А что они знают? Тому владыка — на небесах! Он знает. А бабье — глупость! У Бога проси, чтоб не зря жила! Ведь женщина ты! Рожать должна. Вот сыщется человек — заводи семью, — советовал он Тоньке.
— Да никто на мне не женится! Сама все сгубила. Прошлым. И не надеюсь теперь ни на что! — отмахнулась Тонька и оборвала разговор.
В своей квартире на пятом этаже она ночевала редко. Приходила на выходные — убраться, навести порядок. Но одиночество выгоняло.
В свою квартиру Тонька не приглашала никого.
А квартирой гордилась молча. Хоть сюда могла что-нибудь принести из магазина.
Умер старый геолог в Охе. Невестка все под метлу из квартиры выбросила. Вместе с фотографиями. Тонька разгружать машину на свалке не велела. Все к себе забрала. Старинный резной комод, инкрустированный сундук, резную деревянную кровать и низкий стол на изогнутых ножках. Не разбираясь в скульптурах, поставила на стол отмытую, вычищенную фигуру Венеры Милосской из слоновой кости. А вскоре рядом с нею поставила Аполлона, сиявшего солнцем. Этого — последнего даже ханыги поднять отказывались. Ох и грязный, зеленый он был. Хуже пьянчуги выглядел.
Набор столовый из серебра принесла. Какая- то дура выбросила, поленившись отчистить. Три самовара раскопала на свалке. Один — медный, даже со свистком. У второго — кран попросила припаять. У третьего — ручку починила. Все три действовали. А то шкатулку из красного дерева нашла. Случайно из груды мусора лопатой выкинула. Туда она сбережения складывала с каждой зарплаты.
Закопченные сковородки и кастрюли, плитки и утюги, даже обувь отмывала и донашивала. Отмыла дорожку, выброшенную хозяевами. Не побрезговала.
Книгами все полки забила. Старинные вазы, бронзовая посуда, светильники и настольные лампы — все прижилось в ее квартире. Ведь начала Тонька новую — вторую жизнь.
В ее квартире всегда было чисто. Каждая вещь знала свое место, была ухожена.
Тонька расчищала свалку метр за метром. Давно прижились неподалеку теплицы и парники, снабжая горожан огурцами, помидорами и зеленью. Мало кто из охинцев знал, что в этом есть немалая доля той Вонючки, и нынче презирали, сторонились, припоминая прошлое.
Тонька давно определила границы своего хозяйства, не давая ему увеличиваться ни на метр.
Очистила громадную площадь от мусора, грозившего примкнуть к берегам озера. Теперь эти гектары засеяны травой, засажены деревьями, обнесены оградой под зону отдыха.
Свалка перестала быть сущим наказанием для исполкома. А деньги, которые шли от нее, пускались на нужды города, его благоустройство.
Но случались и здесь свои неприятности. Вот так получилось и в тот день…
Тонька вместе с ханыгами заканчивала сортировку давних завалов: готовили под расчистку, как вдруг вилами вытащили на свет из кучи человечью голову.
Баба вскрикнула от ужаса. Лоб и спина холодным потом покрылись. К горлу тошнота подкатила.
— Ма-ма! — заорала не своим голосом.
Ханыги подскочили:
— Чего орешь?
Такая находка была не первой.
Вызвали милицию. Та долго ковырялась в мусоре.
— Давнее убийство. Долго разыскивали этого человека. А он вон где оказался. Ростовщиком был. Конечно, воры убили. Родственникам надо сообщить, — сказали глухо.
— Как же узнали его? — удивилась баба, все еще дрожа от ужаса.
— По перстню. Только у него такой был! Как не сняли? — удивлялись оперативники.
Тонька уже не хвалилась, что работает директором. Ведь сразу спрашивали — где? И, заслышав ответ, морщились шмары Сезонки так, будто их ткнули носом в нечищеный унитаз.
Да и какой директор, если наравне с ханыгами целый день, с утра и до ночи, расчищает свалку — сортирует мусор. Одни машины разгружаются, другие — загружаются. В дыму и копоти целыми днями она расчищала, убирала загородную зону от старых завалов, будто прошлое свое от груза прожитого, от грехов.
Когда впервые ханыги наткнулись в мусоре на труп женщины и показали его Тоньке, баба с неделю заикалась. Труп снился ей по ночам, мешал спать и есть. Тогда милиция нашла убийцу — ревнивого мужа. Потом бульдозерист вывернул ножом сразу три скелета. Этих никто не опознал.
Находили трупы детей, старух. На такие находки «везло» ханыгам. Даже они, пропившие все на свете и самих себя, в такие дни ходили мрачными, злыми, кляня человечий род за свирепость и жестокость.
К горожанам после таких находок отношение заметно испортилось.
«Мы — пропащие. Но никому, кроме как сами себе, зла не причинили. Здесь же… Вся подноготная Охи, все ее исподнее наружу вылезло. За что их уважать? Да они хуже той грязи, в какой мы ковыряемся! Им ли от нас морды воротить?» — обижался алкаш Василий, в прошлом музыкант. Ему жена наставила рога с поваром из ресторана. И ушел из дома человек, навсегда. От своей мечты и песни — преданной и оплеванной. В ханыги. Не стал ругаться, судиться с женой. К чему? Ведь любил. Выходит, был недостоин взаимности. Либо она не услышала песню. Так и осталась глухой к музыке. А Вася исчез навсегда. Он мучился. Но молча. Никого не кляня. И жил, считая несчастнее — ее…
Иногда, обняв за плечи своих друзей-ханыг, сидя на куче мусора, он пел грустные песни о розах, которые осыпались утром от ночных холодов, так и не успев порадовать девушку, для которой они жили и расцвели. Умерли розы, и только роса на лепестках сверкала слезами. «Нет жизни, умерла любовь, а без нее что в душе останется?» — пел Вася охрипшим от частых простуд голосом.
Здесь на свалке нашел он почти новую гитару. Тонька купила к ней струны. Вася настроил. И теперь вечерами, когда баба уходила домой, выпьют мужики бутылку вермута, возьмет Василий гитару, тронет струны огрубелыми пальцами, и несется до самого озера песня. Да и песня ли это, уж слишком похожей была она на стон сердца.
Тонька все вечера проводила у Тимофея. Далеко от него разъехались дети. Завели семьи, детей. Не до отца им стало. Редко письма приходили. Они были большим событием, настоящим праздником для деда. Он жил и дышал ими.
— Вона! Внучок врачом стал! Теперь хворобу лечить будет по-научному. Грамотный сделался! — гордился Тимофей.
Дети в письмах сообщали о себе. Скупо спрашивали отца о здоровье. К себе не звали. Все жаловались, что квартиры у них тесные, а семьи большие, места всем не хватает. Тимофей понимал и никогда не просился, не жаловался ни на что, не говорил о помощи и душевном, родном тепле, в котором нуждался больше всего. Знал, этого не выпросить, тем более у своих.
Тонька приносила ему продукты, готовила, стирала, убирала в доме. Тимофей не просил о том. Но всякий раз радовался ее приходу.
С женщиной этой свела его беда. Она помогла обоим быстрее понять друг друга.
Зачастую вечерами сидели они на кухне, разговаривали:
— Чего замуж не идешь?
— Не берут, — отвечала Тонька.
— Не крути. Не слепой. Вижу. Вон намедни электрик ко мне приходил. Счетчик проверял. Все возле тебя крутился.
— Женатый он. А мне зачем семью разбивать? — пожимала плечами Тонька.
— А шофер, что тебя привозил к дому? С твоей работы?
— Молодой еще. Я против него — старуха.
— В годах ли дело, если полюбил?
— Какая там любовь? На ночь! И все тут. Мне такое не надо. Прошло.
— А ты откуда знаешь?
— Вижу. Меня в этом учить не надо. Те, за кого можно бы выйти, женаты. А за шпану или ханыгу сама не пойду. Упустила я свое. По молодости и глупости. Сама виновата. Винить некого! — все же вставало в памяти назойливым видением лицо Коршуна. Его она любила. Давно, но почему он помнился ей? Ведь все доброе прошло. Осталась злоба. И не гасла даже с годами.
Коршуна она не видела уже много лет. Она помнила его глаза, губы, сильные цепкие руки. Всего целиком никак не могла вспомнить.
«Он меня, уж верно, давно забыл. А может, считает, что сдохла где-нибудь на улице? За упокой поминает, если сам живой. А то ведь и его могли запороть кенты. Как тех, что находим на свалке», — думалось Тоньке, и она заставляла себя забыть о нем.
Иногда к ней с Сезонки приходили старые шмары. Просили в долг на бутылку — по старой памяти. Или, принеся с собой, предлагали раздавить по стопарю. Тонька не пила. Но не выгоняла прежних подруг. Ставила закуску и угощала баб. Не читала моралей. Слушала, как нынче живет Сезонка, чем дышит, что новое там происходит.