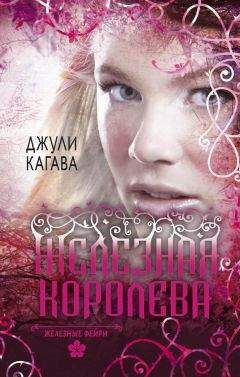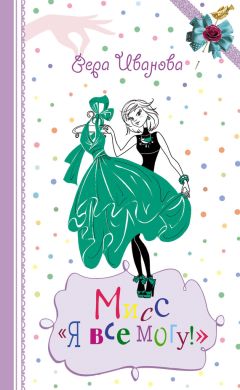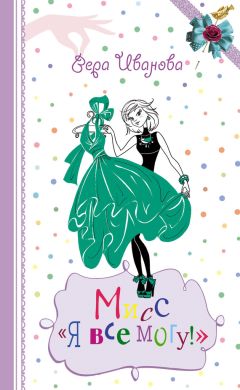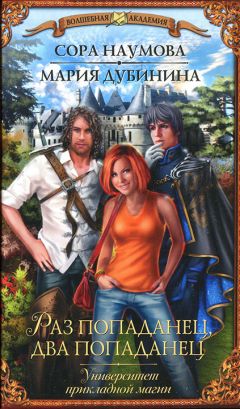Я тяжело вздохнул и принялся выискивать в кучке бумаг доверку, пытаясь на ходу придумать историю пожалостливей — мол, невидимыми секретными чернилами заполнялась, или еще чего в том же духе. Но, найдя, скупо, по-мужски, прослезился и думать перестал. Потому что отпала необходимость — кто-то предусмотрительный уже заполнил ее по всем правилам, даже мои номер и серию паспорта вколотил. Где раскопытил? Впрочем, мало ли? Контора, подогнавшая мне машину, на мелочи не разменивалась, а значит, связи имела солидные. Что им паспортные данные какого-то бывшего таксера? Так, семечки.
В общем, я был на них не в обиде. Я радовался, что Саркисян поимел крутой облом и на этом фронте. Зато, как и боялся, внешний вид многострадальной «Тойотки» вызвал у него неподдельный интерес. Не выпуская из рук документов, лейтенант обошел машину спереди, неодобрительно покачал головой и поцокал зачем-то языком. Потом зашел сзади. Не знаю, что он обнаружил там — наверное, столкновение у городского светофора для моего автомобиля не прошло даром. Опять покачал и поцокал. Главное — постоянство во всем, даже в жестах. Берите пример.
Вернувшись обратно, он встал у водительской дверцы, посмотрел напоследок взятые у меня бумаги, потом мерзко усмехнулся и сказал:
— Боюсь, вам придется выйти из машины. Есть ряд вопросов…
Если вы думаете, что он застал меня врасплох, то вы жестоко ошибаетесь. Еще когда он в первый раз начал щелкать языком, изображая белку за обедом, я понял, что мент Саркисян таки сделает мне какую-нибудь мерзость. Поэтому в ответ на его предложение я тяжело вздохнул, хлопнул руками по баранке и подчинился.
Выбираясь наружу, мельком взглянул в сторону ментовской машины. В салоне темнели еще два силуэта. Разглядывать их внимательнее я не стал, как не стал и придавать значение тому факту, что они вообще есть. А чего, в самом деле? Обычная ситуация. Милиция нынче пуганная стала, по одиночке на людях старается не появляться, чтобы не вводить во искушение разных хуцпанов и шлимазлов. Проломят голову, отберут пушку, иди и доказывай потом, что ты действительно милиционер и тебе хребет при исполнении переломили, а не верблюд и таким уродился.
— Что-то машина у вас в каком-то потрепанном состоянии, — сообщил мне Саркисян, дождавшись, пока я покрепче встану на ноги. И сделал общий жест — мол, смотри, какое безобразие. При этом слегка зацепил и окружающую среду, где безобразия не было в помине.
— А не повезло ей, — охотно объяснил я. Настроение после обнаружения заполненной доверки было хорошее. Разговорчивое такое настроение. — Дураку досталась.
— Вам, что ли? — усмехнулся Саркисян.
— Зачем мне? — удивился я. — Что, кроме меня в нашей стране дураков мало? Напарничку моему. Он, как не с той ноги встанет — каждый предмет в двойном экземпляре видит. Вот и врезается во что ни попадя. Иногда даже жалко становится. Не его, конечно — пусть хоть голову себе расшибет. Машину жалко.
— Документы у вас в порядке, — сообщил гаишник радостную весть, от которой моя душа чуть не захлебнулась в невесть откуда взявшемся бальзаме. Однако радоваться было рано. Да и вообще не стоило, как я понял немного погодя, когда стало совсем уже поздно что-либо менять. — Но ездить с таким ветровым стеклом… Вы хоть дорогу сквозь него видите?
— Вижу ли я дорогу? Вы улыбаетесь? У меня суперзрение. Меня однажды чуть в НАСА не завербовали, чтобы невооруженным глазом за советскими спутниками следил. Только я Родину задешево не продаю, поэтому до сих пор шоферю. А дорогу — можете, товарищ Саркисян, не сомневаться — я вижу. Я ее настолько прекрасно вижу, что даже вас с вашим, извините, жезлом, заметил.
— Ну да? — он снова сделал вид, что не верит ни одному моему слову, но потом передумал — оспаривать последний факт было глупо, поскольку я стоял перед ним, как неопровержимое доказательство. — Ну да. Допустим. Только у нас не всех в НАСА вербуют, есть и подслеповатые граждане, есть и совсем слепые. А правила для всех одни писаны, так что мы не можем позволить вам разъезжать с таким нецензурным видом лобового стекла. Потому что сами понимаете, какой дурной пример другим вы подаете. Сейчас мы вас, конечно, отпустим, но вы должны сразу по прибытии на место заменить стекло на идентичное, но целое. А пока, чтобы вам впредь неповадно было, наложим на вас небольшой штрафчик. Договорились?
Ага, дудки. Я до таких глупостей не договариваюсь даже после полутора бутылок водки. Просто, наверное, умом не вышел. Но — ситуация! — возражать не приходилось. Нащупывая в кармане рубли, на которые вчера успел обменять пару сотен баксов, я, вслед за Саркисяном, направился к бело-голубой машине с офигенной мигалкой на крыше.
При нашем приближении один из товарищей, сидевших в салоне, выбрался наружу. На боку у него висел автомат — укороченный «Калашников». Я, в принципе, не обратил на это внимания — они, почему-то, всегда выползают наружу, когда клиент приносит деньги. С другой стороны, может, человеку просто косточки размять захотелось. Не бить же его за это ногами по лицу.
Мимо с явно завышенной скоростью пронесся «Форд». Человек с автоматом проводил его безразличным взглядом. Потом повернулся в нашу сторону. Саркисян неспешно подошел к машине, вынул из-за пазухи книжку со штрафными квитками и, положив на капот, принялся заполнять. Писал он быстро, я бы даже сказал, привычно, хотя, наверное, совсем не каллиграфическим почерком. У тех, кто пишет много и быстро, почерк почти всегда безнадежно угроблен.
Заполнив бланк, лейтенант поднял голову и поманил меня к себе:
— Подойдите сюда. Прочитайте, распишитесь и заплатите.
Я в очередной раз тяжко вздохнул, подошел к нему и склонился над бумажками. Автоматчик при этом выпал из поля моего зрения. Зато почти сразу уши заполнил отчаянный и ставший таким привычным вой Леонида Сергеевича. Оглянуться и посмотреть, что с ним случилось на сей раз, я, однако, не успел — на голову мне опустили что-то тяжелое и до крайности твердое. Сквозь разлетающиеся из глаз искры я успел заметить только одно — почерк у Саркисяна был, как ни странно, почти идеальный. Но этот факт меня уже не заинтересовал.
Можно обзывать себя всякими словами, вплоть до матерных, можно делать себе больно путем бития головой об асфальт, но если уж родился дураком, то это надолго, вернее — навсегда. Не только до смерти, но и в память потомков, как в компьютерный банк данных. И будут ходить просвещенные потомки, плюясь направо и налево при воспоминании о Михаиле Семеновиче Мешковском — экий был олух, прости, Господи! Вспомнить тошно. А уж в сказке сказать или пером описать — это какую ж наглость иметь надо? Как будто нет у нас людей подостойней, орденоносцев и прочих передовиков, которые за смену, ежели приспичит, могут два, а то и три плана выполнить. Людей, скажем, обслужить, камня надолбить или еще чего. В общем, прямая Мишку дорога — в туалет, там залезть в унитаз и самому за пипетку слива дернуть. Чтобы смыться, на хрен, навсегда из памяти людской, потому как — не место.
Самое досадное, что все это я говорил себе сам и готов был подписаться под каждой фразой. Кровью, потом, соплями, а если хотите — простой шариковой ручкой.
Я ползал по дороге, болтая из стороны в сторону и без того разламывающейся на равные дольки головой и слушал благовест, который дарили мне расквартировавшиеся где-то в районе мозжечка, у основания черепа, невидимые колокола. Им, колоколам, было несравненно легче, чем мне. Долби себе да долби — в одной тональности и с равными промежутками. Мне было хуже — у меня в глазах была темнота.
Черт его знает, я не испугался, я просто сразу принял это, как должное: ослеп. Возможно, подсознательно давно с этим смирился: рано или поздно нечто подобное должно было произойти. При моем-то образе жизни, про который мама еще двадцать лет назад сказала: «Ты, Мишка, все равно добром не кончишь, своей смертью не помрешь. Бандит ты, бандит и есть. Снесут тебе лет через десять башку в какой-нибудь тюряге, и никто про это не узнает». Добрая была старушка. Хотя — почему «была»? Может, и посейчас живет. Впрочем, я тоже, так что относительно продолжительности моей жизни она слегка ошиблась. Лет на десять, как минимум. Да и на счет тюряги тоже, получается, пальцем в небо ткнула. Не был я там, и посещать не собираюсь. Даже в качестве почетного гостя. Хотя, если разобраться, там все гости. Но мама была права в общей характеристике меня, как такового. Как активной единицы нашего больного на голову общества. Люблю ее, маму. Чем дальше (в километрах), тем все больше.
Слепота не проходила. Да я и не ждал этого. Я вообще ничего не ждал, у меня даже чувств никаких не было. Ни отчаянья, ни страха, ни досады. В мозгу толсто и лениво ворочалась одна только мысль — хоть как-то определиться с местоположением. Потому что как раз в этом смысле я ничего конкретного сказать не мог. Во всех других — с нашим удовольствием наговорил бы с три короба, но в этом — полный ноль. И, занятый одной этой мыслью, я просто не мог сосредоточиться на чем-то другом.