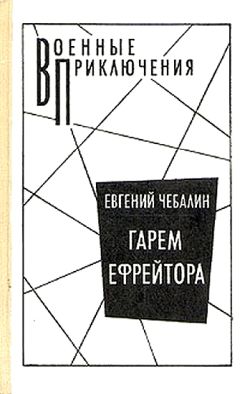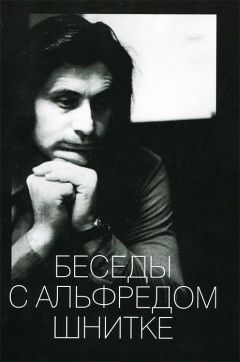– Понял. Рассветет – отправлюсь.
– Как это – рассветет? – сухо удивился Иванов. – Ты, Василий Григорьевич, рассвет в горах встречай. Он там шибко красивый, бордовый, цвета людской кровушки.
– Домой заехать, семью предупредить можно? – скорее по инерции спросил Лачугин, остро сознавая неуместность вопроса.
– Лучше по телефону. Дешево и сердито, – отчужденно посоветовал Иванов, положил трубку.
Сон и усталость напрочь исчезли, кровь упруго толкалась в виски. Что-то надо делать… С ужасающей тяжестью навалилась суть сталинского звонка: «Может быть, вы устали?…» Действовать немедленно, сию минуту. Лачугин уехал. Хорошо. Привезет обстоятельную цидулю, почему в горах бедлам и саботаж, что держит на плаву врага номер один – Исраилова. Ну а что дальше? Все ведь останется по-прежнему и после цидули. «Может быть, вы устали?…»
Откуда эта кровоточащая, сочащаяся политическим гноем язва, очаг тотального саботажа в горах? Ее садистски бередят и расковыривают, не дают зажить, подсохнуть… Поехать и узнать, увидеть все своими глазами… Сейчас, немедленно!
Он посмотрел на часы. Было начало третьего. «Сидеть на пороховой бочке, нюхать травы с цветочками и не замечать горящего фитиля под задом…» Иванов дернулся. «Да что же это такое?! Ни дня, ни ночи… Будь оно все проклято! Я в самом деле устал. Так устал, что… Молчать!» – трезво и яростно оборвал он сам себя.
Припомнил номер телефона, набрал его. Нарком внутренних дел Гачиев отозвался сразу, видимо, держал аппарат у изголовья кровати.
– Иванов, – назвался первый секретарь. Выждал паузу, посоветовал: – Вы бы начали готовиться, товарищ Гачиев. Времени в обрез. Рассветет – едем в горы.
– Куда?
– В аул, где предколхоза убили. Хочу сам с людьми поговорить.
– Зачем э-э… рисковать? Очень опасное дело – ехать, стреляют из кустов, – осторожно возразил нарком.
– Неужели из кустов? – ядовито осведомился Иванов. – По чьей вине, позвольте спросить, кусты стреляют? Если опасно, обеспечьте охрану. Выезжаем в семь. Предупредите начальника райотдела. Поедет с нами.
Положил трубку, поморщился. Сколько раз замечал: говорить с наркомом все равно что горелую резину жевать – так и тянет сплюнуть.
Заставил себя подняться, заварил чай. Налил в чашку, опустил туда желтый кругляшок лимона. Прижал его ко дну, подавил ложкой. Отхлебнул. Неожиданно всплыла перед глазами фотография: заляпанное грязью лицо, грязь доверху забила глазницы. Убийство в ауле. Толпа ввалилась в дом председателя колхоза. Хозяина выдернули в исподнем из постели, связали руки ремнем и погнали на улицу. Там уложили лицом в грязь и хряснули камнем по затылку. После чего сообщили в райотдел милиции Ушахову.
Утром тронулись в путь. Нарком Гачиев рыскал верхом вдоль охраны хмурый, невыспавшийся. Позади всех ехал Ушахов.
Скоро въехали в ущелье. Слезилось изморосью нависшее небо. Сизая щетка леса на хребтах процеживала рваные тучи, временами утопая в них совсем. Лошади всхрапывали на спусках, вспарывая копытами жидкий глинозем, нашпигованный прошлогодним листом. От мокрых крупов поднимался пар.
К Хистир-Юрту добрались к обеду. Небольшая плотная кучка стариков стояла посреди улицы. Иванов спешился, оглядел лица. Закаменело в них терпеливое упрямство. Темные жилистые руки лежали на посохах. Суконные полы бешметов трепал шалый ветер, ерошил разномастные веники бород.
Разверзлись в бородах рты. Старики заговорили по-русски, не доверяя переводчику наболевшее:
– Зачем ставили яво Хистир-Юрт?
– Абу, пирсидатель, с германом воюет. Абасов это время колхоз грабит!
– В сельсовете воровал – турма сидел, финагентом был – тоже турма попадал, тепер пирсидатель стал – сапсем беда!
– Мы гаварили яму – уходи!
– Колхоз много грабил, барашка на водка менял, дойный корова шашалык сибе резал. Ей-бох, сапсем совесть нету!
– На район первый сикиртарь мы письмо писал.
– Район милиции тоже писал: гаварил – убири, убиват будим!
Иванов тяжело развернулся, достал взглядом начальника райотдела милиции Ушахова:
– Такое письмо из аула получали?
Ушахов глаз не отвел:
– Получал.
– Какие меры приняли?
Ушахов подвигал челюстью, не ответил.
– Я спрашиваю: что предприняли?
Заворочался в седле, хлестнул плетью по голенищу нарком. Удерживая шарахнувшегося жеребца, сказал:
– Ему заместитель, старший лейтенант Колесников, действовать предлагал. Так Ушахов его чуть плетью не вытянул: не твое дело, сказал.
«Ай да Саня! – поразился Ушахов. – Вон как все представил. Шустрый малый, далеко пойдет».
– Доложи товарищу Иванову все, как было! – напирал нарком.
– А о чем докладывать? – спросил Ушахов.
– Ты дурачка из себя не строй! – ощерился Гачиев. – Отвечай за свои дела, как положено, перед людьми, перед руководством. Почему докладные на имя секретаря райкома Руматова не подавал?
Ушахов повел головой – стал тесен воротник гимнастерки.
– Докладные?… Мои докладные в райкоме на гвоздике висят. Я их пачками рассылал. Про Муцольгова из «Красного пахаря» докладывал, про Сулимова из «Рассвета» трижды писал! Ну? Сидят ворюги, контра на своих местах, колхозы обирают, открыто вредят! На приеме у первого секретаря был, предупреждал: примите меры, или самосуд начнется…
Иванов, угрюмо слушавший, резко поднял голову:
– И что ответил Руматов?
Ушахов сунул руки за спину, сгорбился:
– А что он может ответить? «Кого вместо них?» Все толковые мужики на фронте, а эти… клопами к колхозам присосались, бронью военкома Решетняка обзавелись! – судорожно комкая хлястик шинели за спиной, поднял на Иванова тоскующие глаза: – Хоть вы помогите, товарищ Иванов. Третью докладную подаю наркому и военкому об отправке на фронт. Старший брат Абу воюет, а я тут груши… околачиваю в засадах.
И было в этих словах такое неприкрытое бессилие, что Иванов едва подавил в себе непрошенное сочувствие. Ответил резко, распаляя себя:
– Военкому виднее, кого на фронт мобилизовать. Значит, если докладные не действуют, изволили руки опустить? С Руматовым мы разберемся и с Рсшетняка спросим. Но вас, извините, на кой черт здесь поставили?! Почему сами, своей властью порядок не наводите? Или уже только на писульки горазды? Вы что ж, получили из аула предупреждение об Абасове и ничего не предприняли? Ждали самосуда?
Ушахов выпрямился, сузил глаза:
– Собаке – собачья смерть. А воскреснет этот «мученик» с большой дороги, они его снова убьют. И правильно сделают!
Гачиев повернулся в седле, загремел на весь аул:
– Как разговариваешь?! Под трибунал захотел? Ушахов крутнулся к нему всем корпусом – грязь фонтаном из-под сапог:
– Вы меня не пугайте, меня контра с двадцатого в этих горах пугала, однако надорвалась!
Гачиев задохнулся, привстал на стременах:
– Ты… Да я тебя…
– Прекратите! – вполголоса яростно бросил Иванов. Обернулся к Ушахову, добавил, заметно белея лицом: – За бездействие и пассивность при исполнении служебных обязанностей будете отвечать по законам военного времени. – Ударил коня стременами, тронул к выезду из аула. Ненужная, постыдная свара получилась, а толкового разговора – нет.
Гачиев рванул поводья. Напирая на Ушахова заляпанным грязью, нервно плясавшим жеребцом, закричал:
– Сдай оружие, Ушахов! – протянул руку, пряча глаза от бешеного неукротимого взгляда начальника райотдела.
– А ты мне его выдавал, чтобы отнимать? Езжай, нарком, у тебя дело поважнее, чем моя хлопушка. Иванова охраняй.
Повернулся, пошел вдоль улицы – сутулый, голова в плечи втянута, шинель по самый хлястик замызгана. Его кобыла Ласточка, щипавшая прошлогоднюю траву по ту сторону арыка, подняла голову, недоуменно, коротко заржала. Хозяин не обернулся. Лошадь мотнула головой, присела на задние ноги, легко скакнула через арык, пристроилась за спиной хозяина, почти касаясь его горбоносой мордой.
Раздирая поводьями губы своего жеребца, нарком развернулся, пустился наметом вслед за Ивановым. Догнал секретаря уже на окраине, поехал рядом. Наклонившись, негромко ожесточенно доложил:
– Этот отказался сдать оружие! Такого в три шеи гнать из партии!
Иванов, не поворачиваясь, отрубил:
– Насчет партийности капитана мы как-нибудь сами решим. А вам советую с бандитизмом и воровством оперативнее решать.
Тусклый предзакатный свет из давно немытого окна падал на руку, плетью лежавшую на вытертом покрывале. Синие взбухшие вены оплетали кулак. Ушахов поднес его к лицу. Разжал пальцы. На тыльной стороне шелушилась дубленая непогодами кожа, траурно темнели кромки под ногтями.
Взгляд скользнул дальше, цепляясь за корку хлеба на столе, груду немытых тарелок, ворох грязного белья в углу. Мадина, жена старшего брата, изредка помогавшая одолевать нахраписто наползающий быт, не появлялась вторую неделю. Горе у них. Абу лежит с ампутированной рукой где-то под Тулой в госпитале. Письмо получили. Отвоевался. Племяш Руслан насмерть вцепился гусеницами своей машины в глинозем под Жиздрой, комбат, гроза немецких танков. Они нужны Мадине, армии, Чечне, их ждут, о них тоскуют.