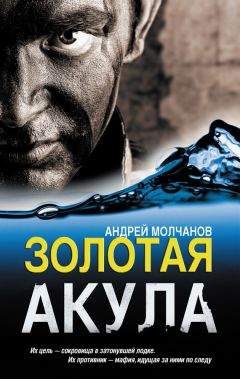– Что насчет этих «линкольнов»? – перевел я беседу в деловое русло. – Подступы обнаружились?
– Пока нет реальных денег, сдались мне подступы! – хамовато отозвался Мопс.
– Деньги будут завтра.
– Ну и подступы завтра! Я – человек конкретный! И вообще здесь – Америка! Это вы там у себя языками чешете, а тут разговор простой: есть бабки – есть песня! А пока бабок не видно…
Я равнодушно пожал плечами. Мопс оставался самим собой, ничего не менялось. Сейчас последуют пространные рассуждения о российской необязательности, несобранности, о том, что никто там, за океаном, не думает, что господин Мопсельберг теряет массу времени, олицетворяющую упущенные деньги, отвлекаясь на пустые исследования рынка, не подтвержденные финансовыми гарантиями…
Рассуждения последовали, и я выключил слух, вглядываясь в океанскую даль залива, отделенную от трассы низкими бурыми холмами с редкими проплешинами снега на их склонах.
Мелькали в глазах островки высохшей прошлогодней травы, брошенные на обочинах автомобили – запыленные, с разбитыми стеклами…
И все-таки я убежал от зимы, все-таки здесь меня постигало сладкое предощущение весны, уже жившей в американском небе, воздухе, в деревьях, хранивших ее в своих соках, уже оттаявших, устремленных к ветвям, к неприметно набухающим почкам…
Мопс проживал в престижной части Бруклина, именуемой Манхэттен-бич, занимая первый этаж аккуратного домика, стеной к стене стоящего в череде ему подобных на небольшой улочке, упиравшейся в закованный бетоном заливчик.
В трех комнатах обреталась семья Мопса: жена и малолетняя дочь, бойко лепетавшая по-английски и языка русского не признававшая, что, впрочем, Мопса, гордого сознанием американского происхождения дитяти, ничуть не огорчало.
Жена – анемичная бесцветная особа, затырканная Мопсом как морально, так и материально, встретила меня молчаливым кивком; ребенок, жуя жвачку, даже не обернулся на гостя, поглощенный мультфильмом, и я, распаковывая свои немногочисленные пожитки, подумывал, куда бы направить стопы, дабы скоротать вечер вне скуки этого дома, тем более Мопс наверняка сорвется до полуночи по своим местным коммерческим делишкам.
– Свой диван ты знаешь, белье Аня тебе даст, жратва и пиво в холодильнике, – сказал мне Мопс, тыкая пальцем в кнопки телефона. – Але, Гриша? Ты еще в офисе? Как на новом месте? Ты не очень бизи[1]? Так я заеду, там митеры[2] у вас есть? – Он выразительно посмотрел на меня, и, уяснив смысл такового взгляда, я вытащил из сумки увесистые цилиндрики российских «двадцаток», которые едва не забыл прихватить сюда, вспомнив о них лишь в последний момент и не без ужаса представив себе сцену, которую бы устроил мне Мопс, не выполни я его завет.
Мопс между тем сделал еще пару звонков, блеснув в диалогах с собеседниками неологизмами русскоязычных эмигрантов, и вскоре отбыл в город, а я, сообщив на пейджер местному уполномоченному Тофика свой номер телефона и не дождавшись в течение получаса ответа, побрел пешочком в сторону близлежащего Брайтон-Бич, где в питейном заведении «Гамбринус», усевшись с кружкой бочкового пльзеньского пива у окна, предался смакованию мелких крабов в чесночном, с зеленью соусе, глядя на чистую сухую улицу и вспоминая замызганную зимнюю Москву.
Что ни говори, а грязи в Нью-Йорке нет. Мусора – в изобилии, но асфальт и бетонные плиты тротуаров всегда будто бы вымыты.
Я глотал холодное свежее пиво, думая, что обитателям этой страны все-таки есть в чем позавидовать.
Нигде в мире не найти такого обилия и разнообразия вкуснющей жратвы, доступной без исключения каждому. То же можно сказать о миллионах хороших и одновременно сравнительно дешевых машин. Да и вообще многому удручаешься, возвращаясь в родные пенаты и вспоминая государство за океаном, с его круглосуточным сервисом любого рода, развитой социальной защитой, жизнью согласно закону, а не постановлениям, должным образом оплачиваемому труду. Но главная и несомненная прелесть Нью-Йорка – воздух! Морской, родниковый, не отягощенный мерзостью промышленных выхлопов…
И часто, просыпаясь здесь ночью, я с наслаждением ощущал льющуюся в легкие кристальную зимнюю прохладу из проема сдвинутой книзу фрамуги.
Но все же… Все же Америка была мне чужда. Я ощущал здесь разрыв каких-то энергетических связей с той землей, на которой родился и хлебнул столько лиха. И меня, идиота, возможно, неуемно тянуло обратно, и противиться такому желанию я не мог, ибо на уровне тех самых мистических тонких материй сознавал, что мой берег и почва там – за океанскими и земными просторами, и, останься я здесь, зачахну как береза в тропиках или кактус в тайге. А может, выживу, пущу, истощая силы своего существа, корешки, но ведь буду уже не тот.
Смутирую, точно.
Утром следующего дня, когда мы с Мопсом попивали кофеек с бутербродами, у дома остановился вылизанный «кадиллак» последней модели, из которого вылез молодой, лет двадцати с небольшим, парень.
Худощавый, хлипкого сложения, с характерной кавказской физиономией.
Парень вошел в гостиную, представившись хрипловатым неприятным голосом:
– Аслан. Вы мне звонили.
Лицо его было бесстрастно-отчужденным, темные злые глаза смотрели как бы сквозь нас, и никакого намека на коммуникабельность в этом типчике категорически не ощущалось.
– Мне сказали, что через вас будут решаться все финансовые вопросы, – сказал я.
– Что-то из машин уже подобрано?
– Простите, – вступил в разговор Мопс, – как подбирать что-либо, когда….
– Я понял. – Не удосужившись взглянуть в сторону Мопса, Аслан расстегнул пухлую кожаную сумочку и, достав из нее пять пачек сотенных в банковской упаковке, бросил их на обеденный стол. Осведомился: – Хватит на первое время?
– Сколько здесь? – заинтересованно вопросил мой компаньон.
– Пятьдесят.
– Но это же всего на две машины…
– Сколько надо еще?
– Для старта? Хотя бы еще столько же…
– Завтра в это же время. – Гость хмуро кивнул и направился к двери.
Заверещал стартер «кэдди», и машина скрылась из виду.
– Ну, вот теперь и начнем, – удовлетворенно констатировал Мопс, сгребая деньги со стола. – Правда, не нравится мне этот звереныш… Чечен вроде, как думаешь?
Я ничего не ответил.
Мне тоже не пришелся по вкусу уполномоченный Тофика, но отступать теперь было некуда.
– Я с чеченами в Бутырке в одной камере три месяца оттянул, – делился между тем Мопс. – Знаешь, с содроганием вспоминаю…
– А чего так? – поинтересовался я.
– Если бы не моя статья антисоветская, не знаю, как бы выжил… Статью они уважали, а так, в быту… За любое слово цеплялись, вообще, я понял: раз ты не их роду-племени, цена тебе – грош ломаный. Это – закон.
– Весьма похожий на еврейский, – вставил я.
– Ну-у!.. – протянул Мопс. – Сравнил! Мы – агнцы! Интернационалисты! А эти… – Опасливо покосился на дверь. – Облапошить тебя, ограбить, унизить – для них доблесть.
– Ну и чего? – спросил я. – Будем давать реверс?
– А уже бесполезно, – сказал Мопс, настроение которого после получения аванса перешло в фазу редкого благодушия. – Уже влезли… неизвестно, правда, во что. Ты «понятия» знаешь. За реверс полагается неустоечка. Теперь главное другое: грамотная тактика.
– То есть?
– То есть принял он тачку – все, никаких дальнейших претензий, новый абзац. И так далее. Акт – подпись. Справимся! Кстати, две телеги уже стоят у приятеля на площадке, поехали смотреть…
Я допил остывший кофе и поднялся со стула.
Вскоре мы с Мопсом мчались на его содрогающемся всеми частями кузова и шасси тарантасе в трущобы Куинса.
Работа началась.
Сквозь сонную сладенькую истому постепенно прорезалось желание, унося остатки утренней дремы.
Он обнял спавшую рядом женщину, прижал ее – размякшую, горячую – к груди, вдыхая запах духов из разметанной копны соломенных волос, и медленно скользнул ладонью по лилейной коже ее бедра, почувствовав волнующе-зовущий жар…
– Ты измучил меня, – шепнула она бессильно и обреченно. Однако прильнула к нему.
Эта девочка была одной из трех его давних подружек, с которыми он, Алихан, спал.
Относясь настороженно к случайным связям, он дорожил этими женщинами, считая их результатами долгой и удачной селекции.
Девочки, не задавая никаких вопросов ни о прошлом его, ни о нынешнем, считали Алихана желанным любовником, а никак не клиентом, и, давая им деньги, он, тоже не причисляя их к категории платных шлюх, говорил всегда одно и то же: мол, не стоит, по его разумению, дарить то, что может оказаться ненужным, а потому купи себе все сама, дорогая, по собственному усмотрению…
Денег на женщин он не жалел.
Да и вообще с презрением относился к скрягам и златолюбцам, полагая, что эти людишки никогда не смогут оценить всю прелесть жизни, испытать ответную благодарность, беззаветную верность и любовь других, ибо начисто, как правило, лишены способностей к поступкам и глубоким чувствам. А старую истину о земных богатствах, которых в могилу не возьмешь, понимал особенно остро, навидавшись в своей жизни столько крови и трупов, что и десятку гробовщиков во снах не привидится…