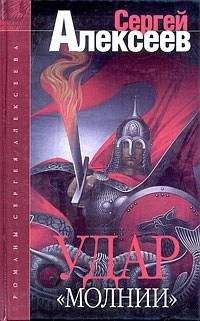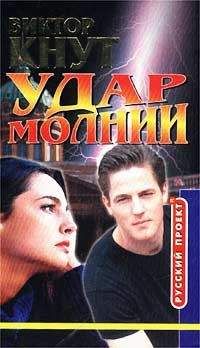— Постарайтесь объяснить свое поведение, — предложил по-английски дед Мазай. — Но так, чтобы я поверил. Почему оказались здесь, с кем встречались, и далее по порядку.
Кастрат держался необычно смело, даже несколько высокомерно, что было неестественно в его положении.
— Кончайте валять дурака, генерал, — вдруг сказал он. — Говорите по-русски… Да, мне известно, вы — генерал Дрыгин, командир спецназа «Молния». Я знаю о вас все и потому советую не осложнять собственного положения. Оно у вас и так достаточно сложно, не так ли?
Установить, есть ли на территории Чечни нелегальная группа Интерпола, было довольно трудно или почти невозможно: эта международная организация, объявившая войну терроризму и наркобизнесу умела хранить тайны, тем более связанные с работой в таких опасных районах мира, как бывшие республики СССР и сепаратистская Чечня. С этой стороны версия была защищена и оказалась уязвима с другой, своей — Кастрат мог получить информацию только из стен ФСК, и не методом депутатского запроса, а лишь благодаря прямому предательству или непрофессионализму человека, допущенного к совершенно секретным документам.
Только так, и не иначе. А значит, «Молнию» сдавали. Инициатива Коменданта, его устремление малой кровью восстановить российскую законность в Чечне, его влияние на первых лиц в государстве и недюжинная мощь его структуры среди остальных силовых структур — все это оказывалось заблокировано или побеждено некой другой силой и мощью, таинственное существование которой он предполагал.
Потому Кастрат чувствовал и вел себя уверенно и даже нагло. Именно он и представлял эту силу, являясь ее исполнительным органом. Руководящие и мыслительные центры располагались где-то над государственными институтами, незримо присутствуя там, где решался любой политический вопрос. Ее, эту вездесущую и неуловимую силу, ошибочно путали с мафией, которую она тоже держала под контролем; ее призрак витал во всех без исключения партиях и движениях, а особенно в демократических, ибо она всегда паразитировала на всякой новой, прогрессивной мысли, высасывала кровь из жизнеспособных идей, превращая свободу — в рабство, народных избранников — в диктаторов, разум — в безумие. Глупцам она внушала, что они умны, бездарям говорила о гениальности, из реформаторов делала параноиков; все, чего она касалась своей рукой, становилось гиблым, бесформенным. Не обладая реальной плотью, вызывая ощущение многомерной вездесущности, она создавала впечатление неистребимости, лишала воли к сопротивлению. К тому же сила эта не имела определенного имени: верующие называли ее нечистой, суеверные — черной, атеисты — злом. В древности она виделась многоголовым змеем, гидрой, поднявшейся со дна моря. На самом же деле она существовала в человеческом сознании в форме психического заболевания — неуемной жажды управлять миром, безраздельно властвовать над государствами, народами и сознанием человечества. И рождена была она разумом раба, вечно стремящегося к свободе через власть, ибо человеку, рожденному свободным, нужна власть только над самим собой.
Жаждущие управлять узнавали друг друга, имели взаимное притяжение, как всякие больные; они объединялись вне всяких партий, поддерживали друг друга и громче всех кричали о свободе личности. Рабу не важна была форма власти и способы ее достижения, потому вчерашние коммунистические идеологи становились банкирами, паханы преступного мира — политиками, целомудренные комсомольские организаторы организовывали порноклубы и наркобизнес.
И вот один такой теперь сидел перед генералом… — Должен предупредить вас, генерал, по возвращении в Москву вам обеспечены большие неприятности, — пользуясь долгой паузой и словно чувствуя ход размышлений деда Мазая, сказал Кастрат. — Я позаботился об этом. Вам изменило чувство меры, полезли в дела, которые не относятся к вашей компетенции. Вы же опытный разведчик, как мне сказали, имеете аналитический склад ума… Вам интуиция не подсказывала, что суетесь в петлю? Касаетесь вопросов, не понятных для вас и потому неразрешимых?
— Мне интуиция подсказывала другое, — признался дед Мазай. — Если после ликвидации одного террориста от тебя дурно пахло и зубы застучали, значит, надо бить их в день по штуке. А то и больше. И тогда вы станете уважать свою службу безопасности, как Интерпол, станете каждый день в штаны делать от страха, потому что ваша рабская душонка ничего, кроме кнута, не понимает.
— Только не надо пугать, — Кастрат геройствовал, взбадривая себя. — Руки у вас коротки, генерал, а скоро сделаем еще короче, если не образумитесь. И покровителю укоротим, найдем способ. В вашем положении я бы поискал возможность выйти из игры, пока окончательно не втянулись и не совершили последнюю глупость. Знаю, вы очень гордый человек, трудно перешагнуть через… убеждения. Но как человек разумный, вы должны понимать, что это всего лишь иллюзии. Вам больше ничего не позволят сделать. Вы уже отработанный материал. Разве не так? Вы этого еще не почувствовали?
Становилось понятно, почему о «Молнии» словно забыли, забыли об отпущенном трехмесячном и заведомо невыполнимом сроке операции. Не торопили, потому что ждали, когда генерал элитного спецподразделения, привыкший воевать и побеждать, имея за спиной крепкую государственную машину, сам прибежит из Чечни, распишется в собственном бессилии, начнет наводить страх, выдавая информацию об армии Диктатора, о центрах подготовки диверсионных формирований и отрядов боевиков, обученных для ведения партизанской войны, о поддержке режима в исламском мире, и таким способом создаст образ непобедимого врага. Журналистам бы не поверили, но командиру «Молнии», профессиональному вояке, видавшему виды, — без сомнений.
А образ сильного противника сейчас был выгоден абсолютно всем, кто прямо или косвенно, умышленно или вслепую разжигал кавказский пожар.
Кажется, вчера еще служивший двум хозяевам, агент сегодня переходил в наступление и вербовал генерала, чтобы теперь он влиял на общество, нагнетая страх и безысходность.
Сознанию раба были неведомы два чувства — стыда и совести. Они мешали достижению власти и в первую очередь исключались из понятия о свободе личности. Поэтому испытанная трусость приводила не к раскаянию, а к наглости, подобострастие обращалось жестокостью, предательство объяснялось как компромисс.
Все это вызывало у деда Мазая лишь чувство омерзения.
А кое в чем он действительно оказывался прав: «Молнию» считали отработанным материалом и ничего бы не позволили сделать…
— Да, мне трудно перешагнуть через себя, — пожаловался генерал. — Через свои убеждения… Но придется, наверное: боевая обстановка, другого выхода пока не вижу. Ни разу не расстреливал противника, взятого в плен, а тебя расстреляю. Возможно, будущей ночью, своей рукой.
— Нет, не посмеете! — без прежней уверенности сказал Кастрат, и в испытующем его взгляде задрожал заискивающий огонек. — Не сможете, рука не поднимется. Вы — князь, Барклай-де-Толли! Как же ваше благородство? Нет, ничего у вас не выйдет. Будь вы из Интерпола — поверил бы, а чтобы князь расстрелял? Или отдал приказ расстрелять?.. — он засмеялся и погрозил пальцем: — Не пугайте, генерал! Не верю!..
Больше всего он напоминал сейчас мелкого беса — наверное, таким виделся он верующим людям…
Его образ стоял перед глазами несколько часов подряд, пока не сменился другим, враз вытеснившим всю нечисть.
Чеченец, как и в тот трагический день в Доме Советов, был снова одет, будто на смерть, во все белое, держался гордо, как истинный горец, и, кажется, презирал все, что творится вокруг…
В последние месяцы Комендант все чаще и чаще сталкивался с этой женщиной в коридорах Кремля, в кабинете «генсека», на загородных виллах и даже в охотничьих домиках. Всякий раз он как-то внутренне собирался, подтягивался, напрягал мышцы, словно перед броском или ударом, машинально и непроизвольно опускал глаза, чтобы пройти мимо и не встретиться взглядом, а когда осознавал себя в этом странном состоянии, чувствовал, как в голове, у темени, назревает горячий комок неудовольствия и гнева. «Зачем она здесь? Кто пустил?» — туповато спрашивал он самого себя и тут же вспоминал, что его рукой же и был подписан пропуск «Всюду», по личной просьбе «генсека». Тогда он переживал период победы и долгожданная власть казалась ему легкой, почти невесомой, и пока еще заключалась в череде приятных официальных приемов, зарубежных поездок к дружественным государям, щедро одаривающим почетными званиями и членством в клубах и академиях. И в этом триумфальном шествии, в этой театрализованной мишуре Комендант и внимания-то особого не обратил на появление этой женщины с грубым и типично выраженным восточным лицом. Помнится, тогда она привезла с Мальты какую-то старую черную хламиду с колпаком — будто бы мантию императора Павла I — и в торжественно-траурной, опять же театральной обстановке Георгиевского зала обрядила «генсека», дала ему шпагу и напутствовала какой-то малопонятной астрологической речью. Все кремлевские спектакли Коменданту к тому времени начинали надоедать, создавали лишние хлопоты, и он уже не вслушивался в сказанное, с некоторой ревностью отмечая, как завертелись, закрутились вокруг шефа Бог весть из каких нор и диссидентских трущоб повылазившие прорицатели, гадалки, астрологи, психотерапевты и прочий человеческий мусор. Вся эта шевелящаяся юродивая масса, изрекая и предсказывая, в конечном итоге требовала одного — денег. Кто-то хотел открыть свой центр, институт, создать школу, новое направление в медицине, в философии, каких-то астральных науках — одним словом, искали себе приносящее доход и славу заделье, ловили рыбку в мутной воде. А народ, изголодавшийся в материалистическом мире по чертовщинке, по гоголевщине и по чуду, кидался на все это, как на колбасу в магазине. Русскому человеку, запертому в тесные рамки коммунистической идеологии, всегда хотелось романтики, сказочности, щемящего очарования непознанных, а значит, необъяснимых явлений от полтергейста до летающих «тарелок». И в тот победный период «генсек» давал деньги, а если не давал, то обещал дать: он сам, досыта накормленный теориями марксизма, хотел чего-нибудь остренького.