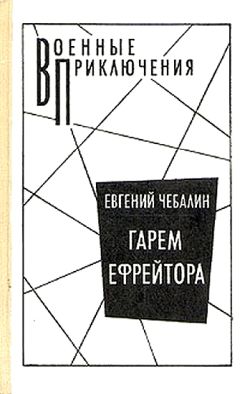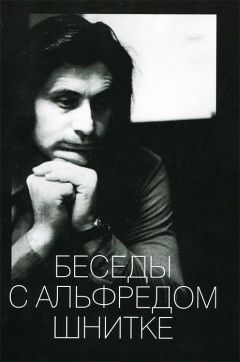И опять долгожданной благодатью опустился на отряд Дубова привал близ Хистир-Юрта. Ждал его с нетерпением Апти-проводник, чтобы прислониться душой к соратникам, напитаться терпким ароматом дубовских побасенок и небывальщин.
После ужина загорались глаза у командира азартом, не сказку рассказывал – живописал, актерствовал, входя во вкус.
– Видит Иван-царевич, заморская птица с малыми детками в траве хоронится. А у парня брюхо с голоду подвело, хоть волком вой, вроде как у нас после ночной засады. Дай, думает, хоть одного птенчика употреблю, на шампур его, пухленького.
Да не тут-то было! Мамаша-птица крылья растопырила – и в слезы: «Ваня, милый, дорогой, не кушай ты моего сыночка малого, а я тебе еще пригожусь». А тут гром-буря налетела, дождем гнездо мочит, градом птенчиков бьет. Эхма, думает царевич, где наше не пропадало. Снял с себя кафтан, гнездо прикрыл, а сам мокнет – страдает. Но без уныния и хандры держится, ну прям как наш разлюбезный проводник Апти, мужчина, одним словом, джигит!
«Много масла Иван-царевич на сердце имеет, – размягченно маялся в сладком полусне Апти. – Кончим войну, всех к себе в гости позову. Черного барана зарежу. Жиж-галныш, чепилгаш жена во дворе сделает, а мы с Федькой сидим в кунацкой, шурпу пробуем. Ивана-царевича ждем. Обещал зайти. Сказал так: «Кощею секир-башка сделаю, с Синеглазкой ночку проведу – и айда к вам с Федькой, слово мужчины даю». Однако кого четвертым позвать? Такой нужен, чтобы компанию при Иване-царевиче не испортил, чтобы на водке норму знал, за кинжал по мелочам не хватался, чтобы Чечня его уважала, чтобы мог кровников помирить, чтобы свет повидал, хабар интересный имел. Э-э-э, – впал в уныние Апти, – много, дурная башка, хочешь. Не родила еще мать такого человека. А если и родила, то не твоим гостем он будет». Однако, погрезив еще наяву, озарился вдруг Апти такой уверенностью: есть такой человек! Не испортит компанию при Иване-царевиче. И в гости к Акуеву прийти не побрезгует. Председатель колхоза Абу Ушахов такой человек.
* * *
Еще затемно повел свою банду Косой Идрис к аулу. Колхозная ферма – длинный, сложенный из дикого камня сарай, крытый соломой, – показалась позади заснеженного пригорка. Ферма стояла на краю аула. На одиннадцать человек было три автомата и восемь карабинов.
Шли молча и зло, не выспались. Глодало нехорошее предчувствие. Три дня назад они уже были здесь, взяли трех коров, скелетно-тощих от бескормицы. Натолкнулись на отчаянную удаль двух сторожей.
Когда выгоняли коров со двора, один из них лежал, уткнувшись лицом в навозную жижу. Развороченный пулей затылок белел разломом кости, спина заляпана мозгом. Второй сидел привязанный к столбу. Они еще нигде не слышали таких черных, жалящих в самое сердце проклятий. Нещадно били коров прикладами в мосластые крупы, поднимая в галоп, ибо всполошенно и грозно гудел потревоженный аул за спиной.
Утром уговаривали Идриса не идти. Тот молча щерился, упрямо качал головой: надо. Не мог он сказать, что это приказ Реккерта. Четверо из пятнадцати отказались, одиннадцать все-таки пошли.
Они вошли в ограду фермы гуськом. Истыканный копытами, схваченный морозцем баз скупо запорошило, ноги то и дело попадали в выемки, присыпанные снегом. Идрис выругался сквозь зубы. Семеро остались у жердей, взяв на изготовку карабины. Двоих со шмайсерами Идрис повел за собой, одному велел идти к распадку и сторожить. За стеной фермы с двумя оконцами глухо, тоскливо взревывали коровы.
В почерневшие ворота была врезана малая дверца. Она надвигалась на Идриса, щелястая, таившая угрозу. Он ударил ее ногой, согнувшись, нырнул в темную, запахом парного навоза пахнувшую дыру. Не оборачиваясь, услышал: двое втиснулись следом, встали у стены. Он взял с собой самых молодых, чтобы обкатать в деле. Теплый влажный сумрак опахнул их застывшие лица. Напрягаясь, пронизывая взглядом полумрак, Идрис ловил смутное движение в стойлах.
Совсем рядом, в двух шагах, от стены отделилась фигура, тускло блеснули два вороненых ствола.
– Опусти ружье, – глухо сказал Идрис.
– Тебе мало того, что ты увел в прошлый раз? – спросил старик.
Теперь Идрис лучше видел сторожа. Рукава бешмета были ему коротки, в крупных мосластых руках ружье смотрелось игрушкой, старый бешмет опоясан патронташем.
– Опусти, – велел Идрис, повел автоматом, – тебе лучше сесть. Поставь ружье к стене и сядь лицом в угол.
– Я свое пожил, – медленно качнул головой старик. Сиплое дыхание клокотало у него в груди. – Ты не возьмешь ни одну телку, пока я живой.
– Последний раз говорю, садись в угол, – сказал Идрис, чувствуя, как накатывает, жжет ярость.
Краем глаза он уловил смутное движение в стойлах. Что-то постороннее, непривычное закрадывалось в это движение. Он никак не мог понять, что же там такое, отчего давящей тревогой охватывает затылок? Вслушиваясь в эту тревогу, успел поймать в последний миг, как смазался тусклый блик света на вороненых стволах старика, и отпрянул в сторону.
Слепящая вспышка полыхнула ему в лицо, и одновременно с ней рвануло когтистой лапой полушубок на плече, выдрало из него клок. Задохнувшись, Идрис утопил спусковой крючок и повел дергающееся дуло к высокой фигуре старика. Очередь воткнулась тому в бок, прошила бешмет наискось дырчатой строкой.
Идрис давил на спуск схваченным судорогой пальцем, хлеща очередями оседавшее тело. Это длилось неимоверно долго, и он тупо удивился: сколько же в рожке патронов?
Потом в грохот автомата врезались два хлопка откуда-то сзади. Идрис плашмя рухнул на пол – стреляли из ружья со стороны кормушек. Он вжался в стену, выцедил сквозь зубы выдох – опалило раненое плечо.
Утробно, дико, вразнобой ревела напуганная скотина, трещали доски перегородок, царапала глотку резкая пороховая вонь. Позади еще раз гулко лопнул выстрел. Сдвоенно, взахлеб заговорили автоматы. Идрис оглянулся. Трассирующие очереди летели от двери, скрещиваясь в темном углу.
Выстрел ахнул совсем рядом, сноп огня вылетел из-под коровьих ног со стороны кормушки, и тут же тяжко хряснул камень над головой Идриса, посекло каменной крошкой лицо. Он перекрестил очередями место вспышки, очередь прошла по ногам телушки. «Они ждали нас, – понял Идрис. – Ночевали здесь, в кормушках. Надо выбираться наружу».
Выстрелы смолкли, стал слышен стук рогов, звон цепи, в крайнем стойле рвался с привязи поджарый медно-красный бык, косил кровянистым бешеным взглядом в проход. Напротив Идриса на полу загона билась с перебитыми ногами, силилась встать годовалая черно-белая телка, поднимала и вновь бессильно роняла голову.
Идрис ползком, вихляясь всем телом, пробирался к выходу. Автомат волочился сбоку. Цепенела спина в ожидании выстрела. У самой двери, втискиваясь в холодную жижу навоза, он огляделся. Полутьма позади кормушек выжидающе, грозно молчала.
Напарников не было – успели выбраться наружу. Поджимая ноги к животу, Идрис выждал, потом рванулся головой вперед, толкнув автоматом калитку. Вывалился в слепящую белизну, ободрал лоб о мерзлую кочку. Перекатился на бок под защиту каменной стены и затих.
Только здесь почувствовал, как сотрясается дрожью все тело, знобкая слабость расползлась от плеча вниз по руке. Он посмотрел на часы, скрипнул зубами. С момента, когда они пришли сюда, прошло всего десять минут. До двух часов, назначенных Реккертом, было больше чем полдня.
* * *
Этого дня ждали в Берлине и в Москве. Так ждет браконьер, нацелив из засады вороненый ствол ружья в бок пасущейся лосихи, готовит едва приметное движение своего пальца, впаянного в курок.
Гитлер кипел гневливым нетерпением перед Гиммлером: где действие «пятой колонны» на Кавказе?! Гиммлер свирепо выговаривал Кальтенбруннеру.
На рассвете семнадцатого (за три дня до назначенного срока) радист Четвергас при обер-лейтенанте Реккерте и полковник гестапо Осман-Губе получили из Армавира одинаковый текст радиограммы от майора Арнольда: «Дальнейшее промедление с началом решительных действий расценивается Берлином как трусость и невыполнение приказа. Арнольд».
Через полчаса ушли, растворились в промозглом тумане три связника от Осман-Губе к бандам Майрбека Шерипова, Расула Сахабова и в пещеру к Хасану Исраилову.
За полночь выпала небывало ранняя пороша. Грузно просели под рыхло-сырой снежной тяжестью кусты. Дивно и торжественно выбелился горный лес, присыпало пухом петли звериных троп, пригнуло блеклую травяную щетину на лесных опушках.
Но неистребимо-летний, все еще пряный и парной дух завис в горных каньонах. Щедро сочились накопленным за лето теплом граниты, базальты и мергель. И необъятное белое покрывало, невесомо опустившееся на них, все заметнее пропаривалось этим теплом до черных дымящихся дыр на камнях и осыпях.