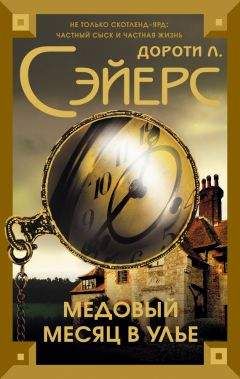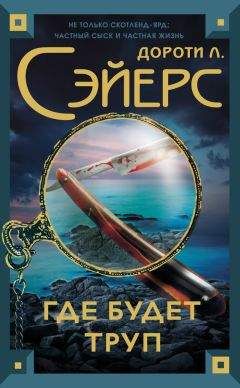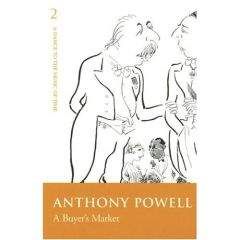– Не думаю, что это такой уж большой риск.
– Хорошо. Тогда решай сама. Если захочешь и когда захочешь. Когда я спрашивал тебя, я скорее ожидал услышать “нет”.
– И ужасно боялся, что я скажу: “Да, конечно!”
– Ну, пожалуй. Я не ожидал услышать то, что услышал. Очень смущает, когда тебя принимают всерьез – как человека.
– Но, Питер, если оставить в стороне мои чувства и твои кошмарные видения горгон-близнецов, девятиглавых гидр и других неведомых зверушек – ты сам хотел бы детей?
Ее позабавила борьба эмоций на его застенчивом лице.
– Такой эгоцентричный болван, как я, – сказал он наконец, – разумеется, хотел бы. Да. Да. Одному небу известно почему. Почему этого вообще хотят? Чтобы доказать, что ты тоже это можешь? Чтобы можно было хвастаться “моим мальчиком в Итоне”? Или?..
– Питер! Когда мистер Мёрблс составлял это твое чудовищно огромное завещание после нашей помолвки.
– Ох, Гарриет!
– Как передается твоя собственность? В смысле недвижимость?
– Ладно, – простонал он, – скелет выходит из шкафа. Майорат. Признаюсь. Но Мёрблс твердо убежден, что мужчина. Да перестань ты хохотать, черт побери, я не мог переспорить Мёрблса! И он сделал распоряжения на все случаи жизни…
Городок с широким каменным мостом и отражения огней в реке навевали еще свежие воспоминания о сегодняшнем утре. Закрытый автомобиль вдовствующей герцогини, которая скромно села рядом с водителем, сама Гарриет в золотом платье и мягкой меховой накидке и Питер, торжественный до нелепости, во фраке, с гарденией в петлице, старается удержать на колене шелковый цилиндр.
– Гарриет, мы пересекли Рубикон. Не раскаиваешься?
– Не более, чем когда мы той ночью плыли вверх по Черуэллу, встали у дальнего берега и ты задал тот же вопрос.
– Слава богу. Так держать, милая. Осталась еще одна река.
– Да, река Иордан.
– Если я тебя сейчас поцелую, я потеряю голову и с проклятым цилиндром случится что-нибудь непоправимое. Давай будем чужими и воспитанными, как будто мы и не женаты вовсе.
Еще одна река.
– Мы подъезжаем?
– Да, вот Грейт-Пэгфорд, где мы жили. Смотри! Вон наш старый дом с тремя ступеньками – там и теперь живет врач, в приемной горит свет. Через две мили поворот направо в Пэгфорд-Парву, а оттуда еще три мили до Пэгглхэма, дальше резко налево у большого амбара и прямо по дороге.
Когда Гарриет была совсем маленькая, у доктора Вэйна была двуколка, как у врачей в старинных романах. Гарриет много раз проезжала по этой дороге, сидя рядом с ним; иногда ей понарошку давали подержать вожжи. Потом появилась машина – маленькая и шумная, совсем не такая, как этот плавный длиннокапотный монстр. Доктор должен был выезжать на обход заранее, чтобы оставить запас времени на случай поломки. Вторая машина была более надежная – довоенный “форд”. Гарриет научилась его водить. Если бы отец был жив, ему бы сейчас было под семьдесят – и его странный новоиспеченный зять звал бы его “сэр”. Удивительно: возвращаешься домой – и не домой. Вот Пэгглхэм, где жила пожилая дама с ужасными ревматическими руками, миссис… миссис… миссис Уорнер ее звали – ее-то, должно быть, давно уже нет.
– Вот амбар, Питер.
– Воистину. А вон дом?
Дом, в котором жили Бэйтсоны – милая пожилая пара, настоящие Дарби и Джоан[44], оба прихрамывали. Они были всегда готовы принять юную мисс Вэйн и угостить ее клубникой и тминным кексом. Да, тот самый дом – нагромождение черных фронтонов, с двумя торчащими трубами, заслонявшими звезды. Открываешь дверь и сразу, через прихожую с земляным полом, идешь в большую кухню с деревянными скамьями и массивными дубовыми балками, увешанными ветчиной собственного копчения. Только Дарби и Джоан уже умерли, и новых хозяев должен встретить Ноукс (она смутно помнила его – суровый, хваткий мужчина, который давал напрокат велосипеды). Но в Толбойз ни в одном окне не горел свет.
– Мы припозднились, – с тревогой сказала Гарриет. – Наверное, он потерял надежду.
– Тогда мы ему ее вернем, – весело откликнулся Питер. – Нечего надеждами разбрасываться. Я сказал ему, что мы можем приехать в любое время после восьми. Похоже, это ворота.
Бантер вылез из машины и подошел к воротам в красноречивом молчании. Он знал, он нутром чуял: все пошло вкривь и вкось. Любой ценой, даже если бы пришлось душить репортеров голыми руками, следовало поехать вперед и проследить за приготовлениями. В свете фар на верхнем брусе ворот был ясно виден клочок бумаги. Бантер с подозрением посмотрел на него, аккуратно выдернул кнопку, прикреплявшую его к дереву, и, все так же не нарушая молчания, отнес бумажку хозяину.
Там было написано: “МОЛОКА И ХЛЕБА НЕ ОСТАВЛЯТЬ ДО ДАЛЬНЕЙШИХ РАСПОРЕЖЕНИЙ”.
– Гм! – сказал Питер. – Жилец, похоже, выехал. Записка, судя по ее виду, висит здесь уже несколько дней.
– Он обещал быть здесь, чтобы впустить нас, – сказала Гарриет.
– Вероятно, он поручил это кому-то другому. В письме нам слово “распоряжение” было написано правильно.
Этот “кто-то другой” не додумался, что молоко и хлеб могут понадобиться нам. Но это легко исправить.
Он перевернул листок, написал на обороте карандашом “МОЛОКА И ХЛЕБА, ПОЖАЛУЙСТА” и вернул Бантеру, который приколол его обратно и с недовольным видом открыл ворота. Автомобиль медленно поехал по короткому раскисшему проезду, по обеим сторонам которого на аккуратных клумбах росли хризантемы и георгины, а за ними виднелся темный силуэт живой изгороди.
“Машина гравия тут не помешает”, – отметил про себя Бантер, с презрительной миной пробираясь сквозь грязь. Когда он дошел до двери – массивной и неподатливой, на дубовом крыльце со скамейками по обе стороны, – его светлость уже выводил на клаксоне энергичную импровизацию. Ответа не было: ничто не шевельнулось в доме, ни одна свеча не зажглась, ни одно окно не открылось, ни один недовольный голос не спросил, чего им надо. Только раздраженно залаяла собака где-то неподалеку.
Мистер Бантер с мрачным хладнокровием взялся за тяжелый дверной молоток, и его удары раскатились в ночи. Собака снова залаяла. Он взялся за ручку, но дверь не поддалась.
– Господи! – сказала Гарриет.
Она чувствовала, что сама во всем виновата. Прежде всего, это была ее идея. Ее дом. Ее медовый месяц. Ее – что самое непредсказуемое – супруг. (Угнетающее слово, если подумать, состоящее из скрипа и стука.) Владелец. Тот, у кого были права – включая право не быть одураченным своей собственностью. Приборная панель не подсвечивалась, и Гарриет не видела его лица. Но она почувствовала, как он повернулся, опираясь левой рукой на спинку сиденья, и прокричал в окно с ее стороны:
– Проверьте сзади!
Его уверенный тон напомнил ей: Питер вырос в усадьбе и прекрасно знал, что сзади сельский дом укреплен хуже.
– Если там никого нет, идите на лай собаки.
Он снова погудел, собака ответила заливистым тявканьем, и темный силуэт Бантера скрылся за углом здания.
– Это, – удовлетворенно сказал Питер, бросая шляпу на заднее сиденье, – отвлечет его на некоторое время. Теперь мы уделим друг другу то внимание, которое в последние тридцать шесть часов уходило на всякую ерунду. Da mihi basia mille, deinde centum…[45] Женщина, ты понимаешь, что я своего добился? Что ты моя? Что ты теперь от меня не избавишься, пока нас не разлучит смерть или развод? Et tot millia millies quot sunt sidera cœlo…[46] Забудь про Бантера. Мне плевать, прогонит он собаку или собака прогонит его.
– Бедный Бантер!
– Да, бедняжка! Никакой ему свадьбы… Нечестно, правда? Все пинки ему, а все поцелуи мне. Не сдавайся, старина. Ах, если бы Дункан на стук очнулся![47]Еще несколько минут можно не спешить.
Возобновилась канонада дверного стука, и собака впала в истерику.
– Должен же кто-то когда-нибудь прийти, – сказала Гарриет, чье чувство вины не могли задушить никакие объятия, – ведь иначе.
– Иначе. Прошлую ночь ты провела на постели из гусиного пуха и так далее. Но постель из гусиного пуха и твой лорд молодой неразделимы только в балладах. Ты предпочтешь жениться с перьями или спать с гусями? Или обойдешься лордом в чистом поле?
– Он бы не застрял в чистом поле, если бы я не была такой идиоткой и не противилась церкви Св. Георгия на Ганновер-сквер.
– И если бы я не отказался от предложенных Элен десяти вилл на Ривьере!.. Ура! Кто-то заткнул собаку – это шаг в правильном направлении. Веселее! Ночь только началась, и мы еще можем найти постель из гусиного пуха в деревенском пабе – или в крайнем случае переночевать в стогу. Мне кажется, что если бы я не мог предложить тебе ничего, кроме стога, ты бы вышла за меня много лет назад.
– Очень может быть.
– Проклятие! Подумать только, чего я лишился.
– И я. Сейчас я могла бы брести за тобой с пятью детьми и подбитым глазом и говорить симпатичному полисмену: “Че вы к нему привязались – это ж мой старик. Что ж, ему и поучить меня нельзя?”