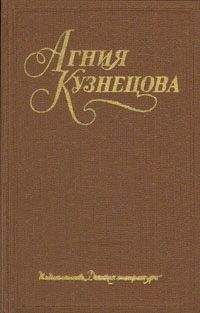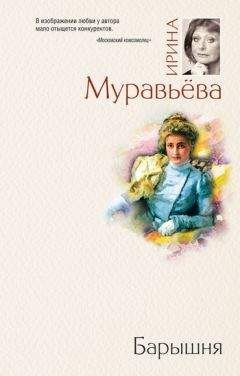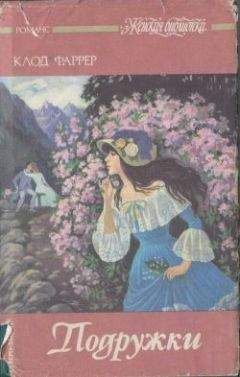— Пожалуйста, оставь Ядвигу в покое! — сказала Марта.
— Ни за что! Наговорила мне с три короба, пусть расплачивается, — ответил упрямый тенорок.
— Отстань, упырь. — Взмолилась Ядвига.
— Вот, видишь, — снова тенор, — а что она на кладбище выделывала, умереть можно.
— Ты и так умер! — напомнила тенорку Марта.
— Она мне… мне!..рожи злобные корчила, поносила всячески и, в добавок, показала задницу! Мне! Заслуженному человеку! Академику! Доктору наук!
— Да моя задница — подарок для тебя! Честь! Изысканное удовольствие. Я специально в будний день приперлась, среди бела дня, чтобы людей поменьше было. Пусть, думаю, порадуется, полюбуется, потешится напоследок.
— А ругалась зачем? — взвился тенор, — козлом меня обзывала, шапоклякой какой — то.
— Козел и есть! — вмешался второй мужской персонаж. Теплый обкатанный бас.
— Анри! Помолчи пока! Я сама!
Осторожно, преодолевая слабость, Катерина повернула голову. Марта и старуха сидели за столом. Глаза закрыты, улыбки на губах, расслабленные позы. Даже руки в кулаки не сжаты. Полная нирвана.
— Ты должен уйти! — потребовала Марта обычным голосом и, перебивая саму себя, заорала уже обиженным тенором.
— Кому я должен?!
— Я тебе сейчас объясню кому… — вмешалась Ядвига басом и завизжала истерично, — упырь, надоел, отстань! Врежь ему, Анри!
— Скотина!
Катерина сползла с узкого диванчика, стараясь не шуметь, выскользнула из комнаты. На ухающем лифте спустилась вниз. Глотая слезы, добралась домой. В родном подъезде дрожащей рукой достала ключи, с трудом справилась с замком, ввалилась в гостиную, рванула на себя тяжелый диван. Паркетная планка под плинтус уходила по наклонной. В щели лежало кольцо. Катя взвыла и сомнамбулой побрела к Устиновым. На звонок открыла тетя Ира.
— Борька где?
— В комнате.
— Один?
— Иди уж…
Катя толкнула дверь. Зашла, села рядом, прижалась щекой к голому плечу.
— Боречка, Борька…
Слова и силы закончились. Глаза закрылись сами собой. «Доченька» — билась в мозгу мысль, как в клетке бьется дикий зверь. «Доченька» — рвала сердце тоска.
Вот уже 20 минут Борис метался по улицам в поисках потерянного спокойствия. Наконец устав, плюхнулся на ближайшую лавку, вперил взгляд в пустоту, ринулся думать.
Через пару недель после смерти матери, Катерина перебралась в особняк Богунского, однако через месяц вернулась домой. Потом взяла отпуск за свой счет и уехала в заброшенный пионерский лагерь, переоборудованный под дачу, печатать чьи-то мемуары. Время она проводила за компьютером и в компании молодой странноватой пары: красавца-брюнета и сексапильной блондинки, обитавших по соседству. Во избежание неприятностей и благо шли каникулы и свободного времени было хоть отбавляй (так Борис оправдывал свои действия) он шпионил за Катькой все это время и теперь мог поручиться: в ту пору Катерина не баловалась наркотиками.
До лагеря она исправно отсиживала в «Весте» положенные часы, отлучалась лишь по пустякам: попить кофе, купить газету, поболтать с подружкой, вечера и выходные проводила с Богунским.
В лагере Катерина подолгу болтала со своими соседями и их гостями — двумя женщинами: старой и средних лет. Раз в неделю Катюха моталась в город, в семиэтажный дом старинной постройки и, пробыв там час-полтора, выходила расстроенная, с заплаканными глазами.
Какую именно квартиру навещала Катя, Борису узнать не удалось. В парадном нес вахту консьерж с седой кудлатой шевелюрой, который пускал посторонних, только испросив у хозяев позволения. Ясность внесла мать.
— Катя посещает сеансы экстрасенса. Та контактирует с Олей. Бедная девочка. Ей так плохо.
Мать словно упрекала его в бездушии. Это было несправедливо. После майских событий, Катя старательно избегала общения. Она и к Богунскому сбежала, полагал Борис, лишь бы оказаться подальше от него. Вернее, подальше от самой себя.
В августе Морозова вернулась домой и заперлась в квартире. Ходила на работу, читала, слушала музыку, глядела телевизор. Очень редко выбиралась в пригород, в пионерский лагерь. Она изменилась, стала спокойнее, умиротвореннее; и, кажется, очень хотелось верить, была готова к капитуляции.
Устинов ждал. Терпеливо и спокойно ждал, пока свершится неизбежное.
— От себя не уйдешь, дурочка, — сказал он когда-то. — Тебе нужен я. Смирись.
Весь август, он чувствовал, как она мирилась с этой мыслью. Сегодняшнее утро, не в драке, во влажной паркой ванной комнаты может и было предвестием капитуляции? Было, было, бухало сердце. Борис поднялся со скамейки, побрел по проспекту. Нашел время сиропы разводить, ругал себя. Момент взывал к трезвому рассудку. Нет, момент взывал совсем к иному. Сегодня утром в ванной…Катька провела рукой по его щеке; лаская? играясь? скользнула пальцами по потным и пыльным ключицам, погладила волосы на груди. Призыв? Пустое кокетство? Единственное, чего избежали их отношения, так это лицемерной женской игры. Если Катерина делала шаг за ограждающую, обычный порядок вещей, черту, то шла, открыто и до конца.
Устинов дернул кадыком, вытер о штанину взмокшие ладони. Гнусным шквальным потоком рвалось из под запретов сокровенное. Катя, Катенька, Катюнечка, в груди защемило от нежности.
Не кстати раздался звонок мобильного:
— Борис? Богунский беспокоит. Есть новости от Кати?
— Нет.
— Так или иначе, давай, встретимся. Ты где сейчас?
Устинов огляделся. Он «догулял» до цирка.
Степанов джип появился почти сразу же, словно ждал приглашения за соседним углом.
— Давай выпьем кофе, — семимильными шагами Богунский направился в направлении ближайшего кафе.
— Два шашлыка, два салата, бутылку «Столичной», — услышал Борис, подходя.
— Мне только кофе! — он совершенно не собирался пить.
— Чуть-чуть, — умоляюще взвился Степан.
— Я — пас.
Бутылку все же принесли. Степик разлил водку, чиркнул рюмкой по рюмке.
— За Катю! — Выдал оригинальный тост.
Вот еще, Устинов чопорно поджал губы, сдерживая раздражение, повторил:
– Я только кофе.
– Да ладно, что ты как не родной, с утра на нервах, расслабиться надо…
— Нет, — покачал головой Борис. — Нет.
— Тогда и не стану, — печально поник Богунский, неотводя взгляд от заветной емкости, — не алкаш, в одиночку лакать. Ладно, ты что-нибудь узнал?
Степан витал туманным взором в небесных высях, перебивал, облизывал пересохшие губы. Он пьян, сообразил Устинов. Не сдюжил в трудную минуту и вмазал. Слабак.
— Катиного шефа застрелили.
— Антона убили?
Директор обрел имя.
— Секретаршу твою, — Устинов сократил вторую часть повествования до печального итога, — сбросили с седьмого этажа.
— Ирку! — без вопросительных интонаций уточнил Степа.
— Анжела уехала, — пришлось напомнить, — в Париж, ждет тебя, дожидается.
— А…
Богунский стремительно поднялся, направился к стойке.
— Кофе, тройной, четверной, чифирь… только б протрезветь, — донеслось сквозь гул голосов. В кафе было людно. — Сейчас, — Степан вернулся с кофейником и чашкой, — тебе не предлагаю, отрава, сердце посадишь, а мне в самый раз… — он влил в себя одну за другой несколько порций. — Сейчас, через несколько минут…
Он пожевал губами, ухмыльнулся криво.
— Да…дела…За девок не суди. Катя — это одно. Они — другое. Дуры, поблядушки. Шлюхи берут полтинник или сотню с клиента, а секретуточке эдакой, — ухоженная рука, округлыми линиями, прочертила в воздухе женский силуэт, — снимешь комнатенку, она и рада стараться. Хоть вдоль ее трахай, хоть поперек, хоть как. — Богунский попытался перейти к подробностям «вдоль, поперек и как», спохватился, приговорил еще пару чашек, понес дальше. — Понимаешь, стоит сесть в директорское кресло и девчонки сами в штаны лезут. Я ей «сколько знаков в минуту печатаешь», а она уже трусы сняла. За лишние пятьдесят баксов в месяц, каждая даст; за сто — согласится приятеля обслужить; за полштуки уж не знаю, — он задумался, — нет, не знаю.
Мера падения пропорциональная столь огромной сумме требовала дополнительного изучения. Богунский снисходительно кивнул на молоденьких девчонок за столиком напротив:
— Голодное поколение! За шоколадку девственность спускают, за пятак молодость, а дальше что?
— Анжела, правда, в Париж укатила? — полюбопытствовал Борис.
— Какое там. Залетела, дура, и давай требовать — женись! Я ей стольник на стол и на дверь показываю: вали отсюда, по-хорошему. Она рыдать, добавь, мало, аборт, стыдно, обычный дамский набор. Подкинул еще, а она на следующий день всем растрезвонила: во Францию еду, на год, Степана Васильевича сопровождать в командировке. И свалила в свою Тмутаракань. Вернется, небось, снова клянчить заявится, сучка. Не поверишь, стыдно людям в глаза смотреть: Париж! Вот зараза! Ирка, узнала, чуть не умерла со смеху!