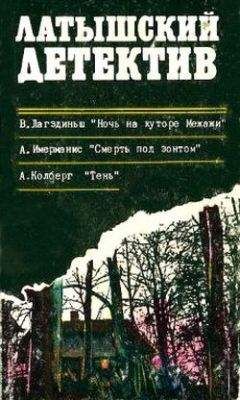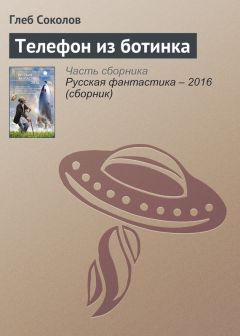Как только у калитки показывалась ослепительная фигура Геннадия Павловича, соседки помогали Ирочке подняться с постели.
– Я все время хочу увидеть тебя во сне, но у меня ничего не получается, – повторяла она его слова.
– Это потому, что мы близко друг от друга живем… Но скоро ты увидишь меня во сне.
– Ты куда–нибудь уезжаешь?
– В Мурманск. На четыре дня. Я дам телеграмму, пусть мама прилетит.
– Не надо. За четыре дня ничего не случится.
– А вдруг?
– Ты мне ничем не сможешь помочь, ты же не акушерка.
– Буду писать длинные письма.
– Но я их получу только после твоего возвращения.
– А телеграммы?
– Пожалуйста, не надо! Терпеть не могу телеграмм.
– Ложись в постель, тебе нельзя долго стоять на ногах.
– Еще немножко.
– А если я вернусь, а тебя в этой палате уже не будет?
– Тогда я буду чуть–чуть подальше. Следующее окно. Но лучше сперва позвони в ординаторскую.
– Если я опоздаю, ты не волнуйся. Знаешь, самолет… Нелетная погода, и торчи в каком–нибудь аэропорту. Я все–таки дам знать маме.
– Не надо. Я не буду волноваться. До встречи, целую!
– Два раза!
– Ладно. Два раза.
Трогательные разговоры.
Однажды, когда Вася в очередной раз приволок «адмиральские» свертки с провизией, соседка по палате пошутила: мол, может, Вася и ребенка Ирочке вместо начальника сделал? Долго потом никто с этой женщиной не разговаривал, да и сама она ходила сконфуженная.
Через три дня в Мурманск полетела телеграмма с известием, что у Ирочки родился сын. Ответ был такой длины, что его подклеивали на нескольких бланках. Если бы Геннадий Павлович одержал победу в большом морском сражении, вряд ли бы он радовался больше. Сын был его Гангутом.
Под утро ветер с радостным воем отодрал от крыши кусок черепицы. Всю ночь напролет бесновался, пытаясь зацепиться за что–нибудь своими когтями, но крыша благодаря почти что отвесному скату не поддавалась, и вот наконец–то ему посчастливилось, и он с громыханьем погнал свой трофей по черепичным ребрам, чтобы шмякнуть его о бетонную плиту тротуара.
Зайга встала, не включая свет. В одной ночной рубашке она стояла у окна, вглядываясь в слабеющую тьму. На фоне неба скорее угадывались, чем виднелись раскачиваемые ветром верхушки сосен. Ночь прошла, она ни на миг не сомкнула глаз.
Ей привиделся рассвет у моря, накатывающие на берег громадные белопенные валы.
И снова – он. Сгинь, Райво Камбернаус, проклятый! Хочешь, на колени перед тобой стану, только оставь меня! Сгинь! Я давно все забыла! Ты мне ничего не должен! Прошу тебя, уйди! Прочь, прочь!
Она вдруг что–то вспомнила и спустилась в гостиную. Странно, в камине под пеплом еще тлели два уголька, как настороженные глаза притаившегося зверя.
Ощупью Зайга добралась до выключателя, и люстра вспыхнула белым ослепительным светом.
Она выдвинула средний ящик буфета, где хранилось столовое серебро старой Кугуры и тупоконечные нержавеющие английские ножи с черенками из слоновой кости, нашарила в глубине и достала крупноформатный конверт.
Она выкладывала из конверта записки, фотографии, газетные вырезки, рассматривала их, комкала и бросала на тлеющие уголья. Год любви с Райво. Нацарапанные наспех записки, которые он оставлял у дежурной по общежитию, когда переносилось свидание; несколько писем Зайге, адресованных в колхоз, куда ее посылали на уборку урожая, или в родной городишко, откуда она под любым предлогом мчалась назад, в Ригу; газетные вырезки разного формата – она собирала все, что писали о Райво и его команде; любительские и профессиональные фотографии, сделанные во время соревнований и после.
Бумага не хотела загораться, и ее пришлось поджечь спичкой.
Все растаяло в дыму быстро и бесследно.
Зайга поднялась к себе в спальню и мгновенно уснула.
Глава седьмая
После полудня Виктора Вазова–Войского в закрытом фургоне доставили в следственный изолятор. Успели отвезти и в баню, где он встретил Хулиганчика, который с видимым удовольствием тер себе живот горстью мелкой древесной стружки. Его вместе с остальными сокамерниками привели сюда заблаговременно, а Виктора и еще двоих поторапливали – всех надлежало помыть и остричь до того, как послезавтра их определят на жительство более продолжительное.
Хулиганчика жалели все, потому что никто, в том числе и он сам, не понимал, как ему удается снова и снова попадать за решетку. Тюремные стены видели и просто хулиганов, и настоящих башибузуков, но среди них, пожалуй, не было ни одного, кто сидел бы за хулиганство шестой раз подряд. К тому же этот несчастный по натуре своей был самым что ни на есть сонным флегматиком.
– В последний раз, когда выходил на волю, решил поставить окончательную точку, – едва не плача, рассказывал он Виктору. – А вишь, опять я тут. Как бы не пришили мне особо опасного, еще сошлют туда, где сам полярный медведь ежится. Что я отсиживал по малолетству, то не в счет, когда по амнистии выпустили, вроде бы тоже не должны засчитывать, а если засчитают? Тут из меня сделают рецидивиста. Доктор предупреждал, помнишь, который за взятку сидел: не смей ни капли. И я что, сухой ходил, покамест у дядьки на юбилее не уговорили лизнуть шампанского. Уважение сделать. И готов! Наклюкался под завязку, кто–то что–то не так мне сказанул, против нутра, ну я и мазнул ему по фасаду. Это был как бы запев. А дальше пошло–поехало. Родня–то ничего, так ведь я в соседней хате выставил окошко, а хозяина спустил, значит, с лестницы. У того перелом ноги. Теперь в обвинительном заключении будут фигурять телесные повреждения. И вот опять сижу, сам не знаю за что!
– Не пищи ты!
– Проверяли на психа, думал, найдут, ан нет – здоровый!
– Тебя тут знают, приставят к художнику стенгазету оформлять. – Виктор пытался успокоить Хулиганчика, но дружок был чрезмерно озабочен статьей о рецидивизме и, о чем бы ни заходила речь, все возвращался к ней.
– Может, попросить, чтоб адвокат достал характеристику с отсидки? За все годы у меня ни одного нарушения режима. А драк или чего такого и в помине не было. Как думаешь, суд учтет? К примеру, ты и счет потерял, сколько просидел в карцере за то, что одеколон пользовал, ну, там в картишки, или Юрка Зуб… У Юрки сплошь нарушения, а у меня ни одного. Даже замечаний – ни–ни. А за тобой опять хаты?
– Фармазон.
– Ну ты и тип! Такие, как ты, никогда не наживут особо опасного. В один заход тыщу хат заделаешь и в придачу тыщу старух облапошишь, а рецидивиста тебе не пришьют. А я поставил кому–то банку – не иначе он сам меня и завел, не может быть, чтоб я с крючка сорвался – двинул, значит, ему по вывеске, и теперь мне особо опасного запросто пришить могут! Не думай, я не завидую, только разве это справедливо?
Помывшись, они встали в очередь к парикмахеру, который, щелкая машинкой, стриг всех, как говорится, под одну гребенку. Вряд ли он знал другую прическу, только наголо, да кое–где оставлял по клочку волос, – машинка была тупая и стригла неровно.
Хулиганчику очень хотелось облегчить душу; кроме Виктора, знакомых у него не было, ему единственному можно было довериться, в надежде что тебя поймут и не будут потом над тобой издеваться.
– Мамаша мне даже невесту подыскала, ничего бабонька, вполне. У дядьки дом, у тетки дом, наши все неподалеку там, когда строились, друг другу помогали. Нет, это рыло чего–нибудь поперек нутра мне сказануло, иначе стал бы я его с лестницы кидать?
– Если бы ты у меня в доме окна повыбивал, я бы тоже тебя хвалить не стал.
– Ничего, маманя раздобудет хорошего адвоката, он–то отведет от меня эту статью, про особо опасного. Как думаешь?
В другой ситуации Виктор не стал бы водиться с Хулиганчиком: его ограниченность была под стать допущенным им нарушениям закона, однако здесь, в карантине, не было выбора, к тому же вдвоем они представляли определенную силу.
Вернувшись из бани, они скатали матрац на нарах, соседних с Хулиганчиком, и кинули на длинный, через всю камеру, стол. Чтобы освободить Виктору место.
Хозяин матраца хотел было возразить, но Хулиганчик посмотрел на него белым оком и буркнул под нос:
– Ничё, там тебе лучше.
На этом инцидент был исчерпан, поскольку их было двое, а здесь каждый стоял только за себя. Остальные двадцать девять обитателей камеры при словах «там тебе лучше» разразились хохотом – единственное свободное место было возле параши, в эпицентре отвратительной вони.
Вдвоем плотно поужинали и легли спать.
– Ты хоть бы кого из наших на воле видал? – уже засыпая, спросил вечный хулиган. – Одного видал, и то через окно троллейбуса… Жуть! Сходить некуда, покалякать не с кем. Старые кореши ощенились и усохли, те воблы, с которыми я водился, повыходили замуж и слиняли куда–то. А новых пока раздобудешь… Пофилонил бы месяц–другой, тогда может быть. Да и то… Я вот что скажу: у непьющего шансов мало. Не любят непьющих. Никто не любит.