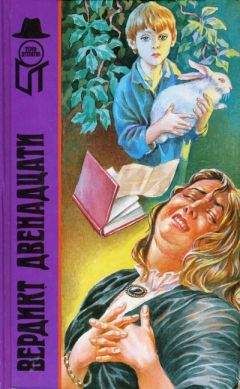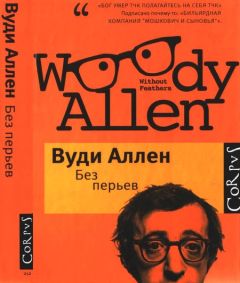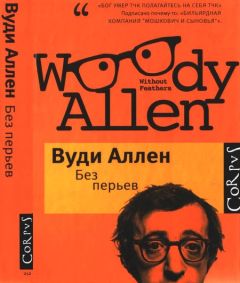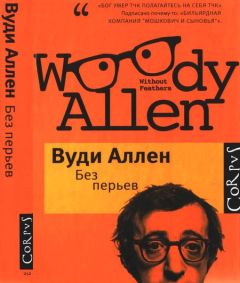У нее было два имени: Элис и Рейчел. Элис — потому что она современная женщина и отказалась от веры и обрядов предков; Рейчел — потому что была и осталась еврейкой с головы до ног — от слишком высоких каблуков до ярких глаз и живого лица, целенаправленно обработанного косметикой, с тем чтобы лишить его всякой индивидуальности. Самым счастливым днем ее жизни, днем, когда она в определенном смысле только и начала жить, был тот, когда она, не пожелав идти в синагогу, повторяла вслед за чиновником Бюро записи актов гражданского состояния: «Я, Элис Рейчел Гринберг, охотно и радостно сочетаюсь с тобой, Лесли Моррис, законным браком». Ибо все семейные привязанности и чувство собственности, какими Рейчел не умела да и не хотела пользоваться, как пользовались ее праматери, она сосредоточила на Лесе.
Так началась ее жизнь, которой было отпущено два года: она вышла замуж в двадцать два и овдовела, когда ей не исполнилось еще и двадцати пяти. Полуевреям приходится хуже, чем полным евреям. Какая-то часть народа, или нации, или уж как там ее называть, медленно ассимилировалась в стране проживания до 1933 года, когда Гитлер приказал им убираться туда, откуда пришли. Те, кто никуда и не уходил, претерпели меньше всех прочих; а тем, кто перестал быть евреем, но кому не позволили стать кем-то другим, — этим пришлось всего хуже. Они попали в положение цыпленка, которому, не успел он отряхнуться от скорлупы, велено возвращаться назад в яйцо.
Приказы подобного рода отдавались не только в Германии или Италии. Антисемитизм — болезнь не просто заразная — инфекционная. До прихода Гитлера к власти антисемитизм бытовал лишь в некоторых строго ограниченных районах, где людям приходилось серьезно конкурировать с евреями в коммерческой сфере: например, в отдельных американских городах, в лондонских Сток-Ньюингтоне и Уайтчепеле. Но в целом в Англии и во Франции, на большей части Америки и в британских и французских колониях антисемитизм не представлял угрозы, поскольку для него не было оснований. У соседей не спрашивали, евреи они или нет, разве что подобный вопрос задавался после многих других.
Но стоило нацистам принять законы о расе и приступить к погромам, как даже их противники задумались о еврейской проблеме. Скандинавы, французы или англичане, до тех пор почти не интересовавшиеся вопросами национальной принадлежности, начали приглядываться к своим еврейским соседям. С особым усердием — и помимо собственного желания — этим занялись убежденнейшие анти-антисемиты. Неужто евреи и впрямь так дурно воспитаны, жадны, похотливы и нечисты на руку? Действительно ли любят выставлять себя напоказ, устраивая крикливые сборища? Тут следует присмотреться получше, чтобы опровергнуть эти лживые домыслы. Анти-антисемиты защищали евреев и по этой причине были погромщиками в меньшей степени, чем фашисты; но, подобно последним, они тоже перестали относиться к евреям просто как к людям.
Антропологи свидетельствуют, что для выделения евреев в какую-то особую, отличную от остального человечества касту наука не дает решительно никаких оснований. Евреи даже не раса — это две, а то и три разные расы, этнологически не отличимые от общин, из которых произошли. Но эта истина не имеет значения. Как только некая группа, не важно какая, в результате всеобщей подозрительности или хотя бы распространенного предубеждения выделяется и противопоставляется остальному обществу, она сразу начинает приобретать заметные отличительные признаки. Совсем необязательно те, какими их наделяют враги, — еврея в трактовке герра Штрейхера[21], можно сказать, не существует на свете, — но признаки вполне реальные. Так что с 1933 года английские евреи и в самом деле оказались отдаленными от неевреев куда резче, чем раньше. Они начали больше бояться и в то же время, по закону компенсации, стали самоуверенней. Ложь антисемитизма уже одним тем, что распространилась по миру, вызвала появление тех самых различий, которых до этого не было, но на которые изначально опирался антисемитизм.
Таким образом, до Гитлера никто бы и не подумал обращать на Леса Морриса особое внимание и предъявлять к нему какие-то претензии. Никому не могло прийти в голову, что ботинки у него слишком ярко начищены, галстуки слишком кричащих расцветок, зеленые рубашки слишком причудливы, а клетки на черно-белом костюме слишком крупны. А если бы и пришло, то такую одежду справедливо бы расценили как верный признак ист-эндского детства, ибо серость унылых улиц этого беднейшего лондонского района нужно же было хоть чем-то уравновесить, и проще всего — броским нарядом. И уж тем более не возникло бы мысли, что Лес похож на типичного еврея, ибо все, кроме Рейчел, находили в нем несомненное сходство с рыбой, притом разительное. Лицо у него было ровного однотонного цвета — цвета брюха у камбалы. Губы постоянно полуоткрыты с выражением удивления и одновременно почтительного внимания, присущим золотой рыбке. Прозрачные светлые глаза создавали обманчивое впечатление, будто никогда не моргают. И тем не менее после Гитлера люди, раньше никогда не встречавшие Леса Морриса, с первого взгляда могли признать в нем еврея — и признавали.
В пику всему вышесказанному следует, однако, заметить, что его жена чуть ли не каждый день шепотом повторяла, провожая его на службу: «Но до чего он красив».
Начало супружеской жизни — пора поэтическая. А какая поэзия больше подходит евреям, если они не евреи, а убежденные англичане, нежели стихи английского патриота, исповедующего католицичество? Любимым поэтом Моррисов был Г. К. Честертон. Когда они читали:
От иноземных тех людей,
Как на дрожжах, поперло дело;
Тогда дворец был поскромней,
Хотя богатство все ж смердело, —
то знали, что эти строки не имеют никакого отношения к ним и их знакомым. Они не представляли (как не представлял и сам поэт), к какому грубому варварству подобные строки могут оказаться причастны. Поскольку же они были слишком молоды, чтобы помнить о крахе иллюзий после 1914 года, то больше всего им нравилась военная поэзия, а в первую очередь — «Фландрская крестьянка», где были потрясающие строки, например: «Он на других убитых не похож». Или еще: «Как расплатиться мне за их долги?»
Всему этому пришел внезапный конец, без всякой видимой причины и смысла, как обычно приходит зло. Или уж, на худой конец, по совершенно ничтожной причине, а если в нем и был какой-то смысл, то настолько всеобъемлющий, что жизнь Морриса с ним никак не соотносилась. Лес владел одной третью пая в лесоторговой фирме; фирма процветала, и ее процветанию ничто не грозило. Более того, утром в то самое воскресенье Моррисы сходили в Голдерс Грин посмотреть на дома, благо им вроде бы пришло время переселиться в действительно хороший район. А после обеда они решили навестить тетушку Леса, которая жила в Уайтчепеле на одной из улиц к северу от Хай-стрит. День стоял очень теплый, сухой, пригожий, и боковые улочки были безлюдны — все выбрались на главную магистраль района. В проулках ошивались только сопливые подростки — этим было решительно нечем заняться, и они бродили, обалдев от скуки, плевали, подражая взрослым, в сточные канавы и в который раз пересказывали друг другу давно известные грязные сплетни.
Дэнни Лири было семнадцать; окончив школу, он так и не смог устроиться на постоянную работу, как, впрочем, и большинство мальчишек из его банды — хотя называть эту сопливую компанию бандой, пожалуй, слишком много чести. Скорее уж это была случайно сбившаяся группа, в которую подростков свела исключительно привычка хулиганить и пакостить. Ножей они не носили и когда дрались, — а дрались они частенько, — то работали ногами и кулаками. По годам и по силе они почти не отличались друг от друга, исключение представлял один Сэмми Редферн, самый юный и маленький в группе, но его терпели, потому что у него был талант — он мог, не открывая рта, воспроизвести всю гамму неприличных телесных звуков. Это здорово оживляло разговоры, особенно со взрослыми. Бывали случаи, когда весьма важные лица терялись, слыша долгие звучные раскаты, идущие, казалось, из их собственных животов.
Пятеро парней ошивались на углу Бердет-роуд, «случайно» толкая прохожих и испуская бессмысленные крики. Полиция, похоже, обратила на них внимание, и тогда они медленно отчалили в западном направлении по Майл-Энд-роуд. Возле Народного дома они заметили двух знакомых девчонок, столь же бесцельно фланирующих в смутной надежде — вдруг подвернется «что-нибудь веселенькое». Дэнни и Фрэнк, молодой человек, его сверстник, перешли через улицу и приподняли шляпы с преувеличенной вежливостью.
— Куда держим путь, Рози, лапочка? — осведомился Дэнни.
— Погуляем, поболтаем с вашим покорным? — блеснул Фрэнк.
Подобное остроумие заслуженно исторгло у девушек хихиканье.