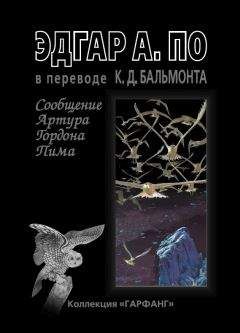— Морелла! — закричал я. — Морелла, откуда ты это знаешь?
Но вместо ответа она отвернулась, легкая судорога пробежала по ее членам, и она умерла. Никогда больше я не слыхал ее голоса.
Но как Морелла и предрекла, ее дитя, дочь, которой она дала жизнь, уже умирая, которая начала дышать с последним вздохом матери, осталась в живых. Однако она очень странно развивалась — как физически, так и умственно — и была точным подобием умершей. И я полюбил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к земным существам.
Но вскоре безоблачное небо этой чистой привязанности омрачилось: уныние, страх и печаль заволокли его тучами. Ребенок действительно развивался очень странно. Меня приводил в смущение необычайно быстрый рост девочки; но гораздо ужаснее были мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И разве могло быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в этом малолетнем ребенке, в каждом его слове и поступке, силу и зрелость ума взрослой женщины? Когда с детских уст слетали уроки житейского опыта, когда я читал знаки мудрости и страстей зрелого возраста в ее больших задумчивых глазах?
С тех пор как все это стало очевидно и я уже был не в силах закрывать на это глаза, не мог продолжать бороться с жаждой уверовать, стоит ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения? Отныне мои мысли снова и снова возвращались к цветистым фантазиям и поразительным теориям Мореллы, ныне покоящейся в склепе.
Что мне оставалось? Я скрыл от любопытных посторонних глаз ту, кого мне самой судьбой было предназначено полюбить всей душой, и в строгом уединении сельского дома с мучительной тревогой следил за обожаемым существом, не упуская ничего. Проходили годы, а я день за днем всматривался в ее кроткое и выразительное лицо и находил в дочери все новые черты сходства с умершей матерью. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непостижимыми, и чем полнее и определеннее они становились, тем больший ужас меня охватывал. Сходство улыбки дочери с улыбкой матери я мог бы еще понять, но меня пугала их совершенная тождественность; мог я перенести и сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в глубину моей души с тем же тревожным и напряженным выражением, как и глаза Мореллы. И очертания высокого чистого лба, и шелковистые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная мелодичность голоса, но главное — слова и выражения мертвой на устах живой, любимой! Все это питало во мне одну и ту же неотвязную мысль.
Так минуло два пятилетия ее жизни, но дочь моя все еще оставалась безымянной. Как любящий отец, обычно я звал ее «дитя мое» или «любовь моя», а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишило ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло вместе с ней. Я никогда не говорил с дочерью о матери; для меня это было невозможно. На протяжении всего краткого срока ее затворнического существования внешний мир оставался для нее неведомым.
Но в конце концов моему смятенному уму открылся путь к спасению и избавлению от ужасов моей собственной судьбы — обряд крещения. И у крестильной купели я заколебался, выбирая ей имя. В моем уме теснилось множество имен мудрых и прекрасных женщин былых и нынешних времен, обитательниц этой страны и дальних краев. Многие из них были красивы, были кротки душой, счастливы и добры… Но что же побудило меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон принудил меня произнести это имя, при одном воспоминании о котором кровь застывала в моих жилах, а затем приливала к сердцу? Какой злой дух подал голос в недрах моей души, когда в тусклом полусвете, в безмолвии ночи я шепнул святому отцу эти три слога: «Морелла»? И некто больший, чем злой дух, исказил черты моего ребенка и лишил их красок жизни, когда, содрогнувшись при чуть слышном звуке этого имени, она возвела остановившиеся глаза к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила: «Я здесь!»
Отчетливо, бесстрастно и холодно отдались эти простые слова в моих ушах и, подобно расплавленному свинцу, шипя, прожгли мой мозг. Пройдут годы, но память об этом мгновении не изгладится во мне никогда. С той минуты я больше не замечал ни времени, ни места, звезда моей судьбы погасла в небесах. Вся земля погрузилась во мрак, ее обитатели скользили мимо меня, как смутные тени, и среди них я видел только одну — Мореллу! Ветер нашептывал мне только одно имя, и рокот моря повторял снова и снова — Морелла, Морелла…
Но она умерла; я сам похоронил ее и рассмеялся долгим и горьким смехом, когда не обнаружил никаких следов первой Мореллы в том склепе, в который опустил вторую.
Перевод Л. Уманца
Он жив и заговорил бы, если б не соблюдал обета молчания.
Надпись на итальянской картине, изображающей св. Бруно
Лихорадка моя была упорной и продолжительной. Все средства, какие только можно было раздобыть в этой дикой местности у подножия Апеннин, были использованы, но без видимых результатов. Мой слуга Педро, он же единственный спутник, был слишком несведущ, чтобы решиться пустить мне кровь, хотя я и без того немало потерял ее после схватки с горными разбойниками. Мы заночевали в пустующем уединенном замке, но я чувствовал себя так скверно, что даже не решался отправить слугу за помощью в близлежащее селение.
И тут я вспомнил о маленьком свертке опиума, который лежал вместе с трубочным табаком в деревянном ящичке: еще в Константинополе я приобрел привычку курить табак вместе с такой примесью, которая в тех краях считалась лекарственной. Педро подал мне ящичек. Порывшись, я отыскал сверток с зельем, но, когда задумался о том, какую дозу следует принять в моем состоянии, остановился. При курении никакой точности не требовалось — я просто перемешивал некоторое количество опиума с табаком. Иногда эта смесь не оказывала на меня ни малейшего действия, но порой я замечал кое-какие угрожающие симптомы мозгового расстройства, которые как бы предостерегали меня и призывали к воздержанию.
Правда, действие, производимое опиумом при курении, не несет в себе никакой серьезной опасности. Но тут все обстояло иначе — я никогда еще не принимал этот наркотик в чистом виде внутрь, и его последствия были мне неизвестны. Мой Педро знал об этом не больше меня. Таким образом, несмотря на критические обстоятельства, я пребывал в полной нерешительности. Впрочем, огорчаться не следовало — выход нашелся. Я решил принимать опиум постепенно, причем первая доза должна была быть совершено ничтожной. Если она не возымеет действия и я не получу облегчения, можно будет ее повторить. И так до тех пор, пока лихорадка не отступит или пока ко мне не явится великий целитель — благодатный сон, не посещавший меня уже целую неделю.
Уснуть мне было совершенно необходимо. Чувства мои находились в состоянии какого-то беспрестанного смятения, напоминавшего тяжелое опьянение. Именно это смутное и тягостное состояние души помешало мне заметить отсутствие логики в моих мыслях: я принялся рассуждать о больших и малых дозах, не имея никакого определенного масштаба для сравнения. В ту минуту я вовсе не думал о том, что доза опиума, представлявшаяся мне ничтожной, на самом деле могла оказаться вполне достаточной, чтобы убить меня. Я хорошо помню, как с невозмутимой самоуверенностью определил количество, необходимое для первого приема, отделив частицу от сероватого, похожего на черствеющее тесто куска, лежавшего в свертке. Я проглотил ее, и сделал это бесстрашно, так как эта частица была, несомненно, очень мала по отношению к общему количеству наркотика, находившегося у меня в руках.
Замок, куда мой слуга ворвался силой, взломав дверь, ибо не желал допустить, чтобы я, измотанный лихорадкой и раненый, провел ночь под открытым небом, был одной из тех мрачных и величественных громад, которые со времен Средневековья хмурятся среди отрогов Апеннин — причем не только в фантазии миссис Рэдклиф[207], но и в действительности. Судя по всему, замок этот был покинут владельцами совсем недавно и не окончательно. Мы расположились в одном из самых небольших и наименее роскошно обставленных покоев в уединенной башенке. Обстановка здесь также была богатой, но обветшавшей и очень старой. Стены были обиты тафтой, увешаны всевозможными военными доспехами и множеством изысканных современных картин в пышных золоченых рамах с арабесками. Взгляд натыкался на них не только на самих стенах, но и в закоулках, которых здесь было множество из-за причудливой формы здания, и я принялся рассматривать эти картины с каким-то чрезвычайно глубоким и обостренным интересом. Возможно, он был вызван уже начинавшимся лихорадочным бредом.