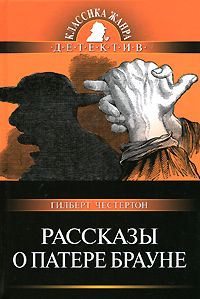Дабы объяснить вам, почему я счел свою находку весьма ценной, я должен рассказать, какие цели преследовали мои раскопки. Я, в сущности, производил раскопки раскопок. Я искал не только древности, но и древних любителей древности. Я имел основание думать (или думал, что имею основание думать), что эти подземные ходы, относящиеся преимущественно к периоду Миноса и отождествляемые со знаменитым лабиринтом Минотавра, отнюдь не оставались недоступными и нетронутыми на протяжении веков – от Минотавра до современного исследователя. Я, как и некоторые другие ученые, полагал, что эти подземные ходы – я бы даже сказал, подземные города и села – до нас посещали другие люди. Относительно того, какие цели преследовали эти средневековые исследователи, существуют различные мнения. Одни ученые утверждают, что византийские императоры действовали исключительно в интересах науки, другие – что во времена упадка Римской империи появилась мода на всевозможные суеверия и азиатскую извращенность и что некая секта манихеев[11] предавалась в этих пещерах диким оргиям. На мой взгляд, пещеры служили тем же целям, что и катакомбы. Я полагаю, что древние христиане скрывались в этих каменных языческих лабиринтах от религиозных преследований, которые время от времени вспыхивали по всей империи точно пожары. Вот почему меня охватило величайшее волнение, когда я нашел этот крест и увидел изображенный на нем символ. Меня пробирала радостная дрожь, когда я шел к выходу из пещер, оглядывая голые каменные стены, тянувшиеся мимо меня в бесконечность.
На этих стенах я вновь увидел изображения рыб – еще более грубые, но еще более реалистичные. Они напоминали ископаемых рыб, навеки застывших в обледенелом море. Я был не в состоянии проанализировать эту аналогию, никак, строго говоря, не связанную с первобытными рисунками на каменной стене, пока не поймал себя на одной мысли: я думал о том, что первые христиане, в сущности, жили как рыбы – немые, беззвучно двигающиеся в затерянном мире сумрака и молчания, глубоко под ногами людей.
Всякий, кому приходилось идти по каменному коридору, знает, как эхо сбивает с толку. Оно то следует за тобой по пятам, то забегает вперед – положительно трудно становится убедить себя в том, что ты совершенно одинок. Я уже привык к причудам эха и не обращал на него внимания, пока не остановился перед новым изображением рыбы, показавшимся мне особенно интересным. Я остановился, и в то же мгновение остановилось мое сердце. Ибо я стоял на месте, а эхо продолжало идти.
Я бросился бежать, а призрачные шаги последовали за мной; однако они не воспроизводили в точности звука моих шагов. Я опять остановился, остановились и шаги. Но я мог поклясться, что они остановились секундой позже меня. Я крикнул. И услышал ответный крик. То был не мой голос.
Он раздался из-за поворота прямо передо мной. Когда дикая погоня возобновилась, я заметил, что голос каждый раз раздавался из-за поворота. Узкое пространство передо мной, освещаемое моим карманным электрическим фонарем, было все время абсолютно пусто. Таким образом, я говорил с невидимым собеседником, и разговор этот длился до тех пор, пока я не увидел мерцание солнечного света. Но и тогда мне не удалось установить, куда делся мой собеседник. Впрочем, все устье лабиринта было в расселинах, щелях и пещерах, так что ему, вероятно, нетрудно было нырнуть в одну из них и исчезнуть в подземном царстве. Я знал только, что, выйдя из лабиринта, я очутился на склоне высокого холма, походившего на мраморную террасу. Однообразие его нарушалось лишь зеленой растительностью, которая напомнила мне своим буйным цветением нашествие восточного духа, воцарившегося на развалинах классической Эллады. Передо мной расстилалось безмятежное синее море, и солнце изливало свои лучи на безмолвную пустыню. Ни одна травинка не колыхалась, кругом не было видно ни тени.
То была ужасная беседа. Такая откровенная, такая личная и такая, в сущности, случайная! Это существо, бестелесное, безликое, безымянное, но называвшее меня по имени, говорило со мной в этом хаосе расселин и криптов, в котором мы были похоронены заживо, так бесстрашно и так просто, как если бы мы сидели в клубных креслах. Этот человек сказал мне, что он убьет меня и всякого, кто завладеет золотым крестом с изображением рыбы. Он сказал мне откровенно, что он не так глуп, чтобы напасть на меня в лабиринте, – он, дескать, знает, что я ношу при себе заряженный револьвер. Он заявил мне, все так же спокойно, что тщательно подготовил план моего убийства, что он учтет все случайности и обеспечит себе успех с взыскательностью истинного художника, что он проработает все детали, подобно китайскому токарю или индийскому ткачу, вкладывающему в свой труд всю душу. Но он не был восточным человеком.
Я уверен, что он был белым. Мне даже кажется, что он был моим соотечественником.
С тех пор я время от времени получаю дикие послания, которые убеждают меня в том, что этот человек одержим навязчивой идеей. Он постоянно твердит мне все в тех же простых и сдержанных выражениях, что приготовления к моему убийству и похоронам протекают удовлетворительно и что единственная представляющаяся мне возможность избежать благополучного завершения этих приготовлений – отказаться от золотого креста, который я нашел в подземной пещере. По-видимому, он не фанатик и не одержим никакой религиозной манией. У него нет никаких страстей, кроме одной – страсти коллекционера. И это подкрепляет мою уверенность в том, что он человек Запада, а не Востока. Его бешеная страсть свела его с ума.
И вот теперь пришло известие, что в Сассексе найден второй такой крест. Если до сих пор он был маньяком, то это известие превратило его в демона, одержимого семью бесами. Ему долгое время не давал покоя мой крест, а теперь появился второй такой крест, и он тоже не в его руках! Какая мука! Его сумасшедшие послания посыпались на меня точно дождь отравленных стрел. И в каждом послании он сообщал мне со все большей прямотой, что смерть настигнет меня в тот самый миг, когда я протяну свою недостойную руку к кресту, найденному в гробнице.
«Вы никогда не узнаете, кто я, – пишет он мне. – Вы никогда не произнесете моего имени. Вы никогда не увидите моего лица. Вы умрете и никогда не узнаете, кто убил вас. Я могу быть подле вас под любой личиной. Но лица моего вы не увидите никогда».
Из всего этого я заключаю, что он все время следит за мной и пытается украсть крест или же убить меня. Но так как я никогда в жизни не видел его, то он может быть любым встречным. Рассуждая логически, он может быть лакеем, подающим мне обед. Он может быть пассажиром, сидящим со мной за одним столом.
– Он может быть я, – сказал патер Браун, легкомысленно пренебрегая элементарными правилами грамматики.
– Кто угодно, только не вы, – серьезно ответил Смейл. – Вот почему я сделал вам тот комплимент. Вы единственный человек, в котором я уверен.
Патер Браун опять смутился.
– Да, как ни странно, это не я, – улыбнулся он. – Мы прежде всего должны постараться выяснить, действительно ли он тут, пока он не успел причинить вам какую-нибудь неприятность.
– Есть только одна возможность выяснить это, – мрачно заметил профессор. – Когда мы прибудем в Саутгемптон, я арендую автомобиль и поеду по побережью. Я буду очень рад, если вы поедете со мной, но всю остальную компанию придется бросить. Если мы встретим кого-нибудь из наших спутников в Сассексе, в той маленькой церкви, мы сразу поймем, кто мой таинственный враг.
Программа профессора была выполнена в точности – по крайней мере в отношении автомобиля и его второго пассажира, патера Брауна. Они двинулись вниз по побережью; с одной стороны от них было море, с другой – холмы Гемпшира и Сассекса. Они не заметили никаких следов погони. Когда они подъезжали к Дулэму, им встретился только один человек, имевший косвенное отношение к цели их поездки, – журналист, посетивший место раскопок, которое ему предупредительно продемонстрировал местный викарий. Но все наблюдения и замечания этого журналиста носили ярко выраженный характер газетной болтовни. Однако профессор Смейл проявил некоторую подозрительность и не мог скрыть неприятного впечатления, произведенного на него наружностью и поведением журналиста – худого человека с горбатым носом, глубоко сидящими глазами и уныло свисающими усами. Последний, по-видимому, был несильно воодушевлен своей ролью туриста и любителя древностей; когда путешественники задали ему какой-то вопрос, он попытался уклониться от ответа.
– Над гробницей будто бы тяготеет какое-то проклятие, – сказал он, – если верить путеводителю, священнику или местным старожилам, – я уж не знаю, кто из них авторитет по этой части. Проклятие или не проклятие – я от души рад, что выбрался оттуда.
– А вы верите в проклятия? – полюбопытствовал Смейл.