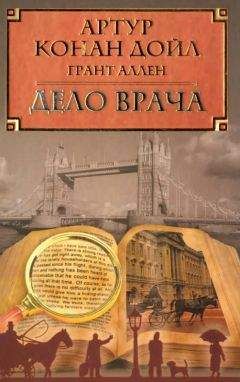Доброжелательная, самовластная поклонница строгого порядка, улыбчивая и неумолимая! Под ее властью бедняжка Этти бледнела и таяла с каждым днем, а нрав Мэйзи, по природе податливой, портился прямо на глазах из-за упорного, ненужного вмешательства.
Впрочем, с приходом весны я начал надеяться на улучшение. Ле-Гейт приободрился, его прежняя натура, беспечная и жизнелюбивая, стала снова проявляться по временам. Как-то он сообщил мне с грустным вздохом, что подумывает отправить детей в школу где-нибудь в деревенской местности — им там будет лучше, сказал он, а кроме того, это снимет часть бремени с плеч дорогой Клары.
(Никогда, даже наедине со мной, не говорил он ничего плохого о Кларе.) Я поддержал его в этом намерении. Хьюго признался, что главным препятствием являлась… сама Клара. Она такая совестливая… Она видит свой долг в том, чтобы самой присматривать за детьми… Она не вынесет, если кто-то чужой заменит ее… Кроме того, у нее такое высокое мнение о школе здесь же, в Кенсингтоне!
Когда я рассказал об этом Хильде Уайд, она стиснула зубы и сразу же ответила:
— Вот теперь все определилось! Нарыв созрел. На отправке дочек в дальнюю школу он настаивать будет, чтобы спасти их от беспощадной доброты этой женщины. А она не захочет поступиться даже малой частью того, что называет своим долгом. Он начнет урезонивать ее, отстаивая детей; она останется неколебима, как скала. Громких криков не будет — с таким темпераментом из себя не выходят. Она просто будет провоцировать его — спокойно, мягко и невыносимо. Когда она зайдет слишком далеко, он наконец вспыхнет; его уязвит какое-нибудь замечание — произойдет взрыв и… Детей отправят к их тетушке Лине, в которой они души не чают. После того, как все будет сказано и сделано, жалеть нужно будет только этого беднягу!
— Вы говорили, что должно пройти двенадцать месяцев…
— Когда стрела сорвется с натянутой тетивы — точно не предскажешь. Может, немного раньше или несколько позже. Но — через неделю или через месяц — это случится, случится!..
Смеющийся июнь вновь пришел на землю; после полудня тринадцатого числа, в годовщину нашей первой встречи у Ле-Гейтов, я был на дежурстве в отделении травматологии в клинике Св. Натаниэля.
— Ну что ж, сестра Уайд, июньские иды наступили! — сказал я, встретив Хильду, в подражание Цезарю.
— Но еще не миновали, — ответила она, и на ее выразительном лице отразилось недоброе предчувствие.
— Да я же обедал у них вчера! — воскликнул я, борясь с тревогой. — И все прошло исключительно гладко!
— Возможно, это затишье перед бурей, — прошептала Хильда.
Спустя несколько минут до меня донеслись с улицы выкрики мальчишки-газетчика: «Газета «Пэлл-Мэлл», па-а-купайте, шпецальный выпуск! Жуткая трагедь в Вест-Энде! Подлое убивство! Па-а-купайте! «Глоб» тоже шпецальный! «Пэлл-Мэлл», усё подробненько для вас!»
Меня охватило смутное, но тревожное предчувствие. Я вышел на улицу и купил газету. На развороте мне бросился в глаза заголовок: «Трагедия на Кэмден-Хилл: известный барристер убивает свою жену. Сенсационные подробности».
Я просмотрел статью наскоро, потом прочел. Всё было как я опасался. Ле-Гейты! После того как прошлым вечером я ушел от них, муж и жена, по-видимому, поссорились, скорее всего, из-за выбора школы для детей; и какое-то слово Клары довело Хьюго до того, что он схватил нож — «небольшой декоративный норвежский кинжал, — значилось в репортаже, — который по роковой случайности лежал на столике в гостиной» — и вонзил его жене в самое сердце. «Несчастная леди скончалась, судя по всему, мгновенно, но отвратительное преступление было обнаружено прислугой лишь сегодня в восемь Часов утра. Ле-Гейт скрылся».
Я бросился искать сестру Уайд, чтобы сообщить ей ужасное известие, и нашел ее за работой — она делала больной перевязку. Услышав, что случилось, она побледнела, но лишь склонилась над пациенткой и ничего не сказала.
— Страшно подумать! — простонал я. — Ведь мы знали все… А теперь бедного Ле-Гейта повесят! Повесят за то, что он попытался защитить своих детей!
— Не повесят, — ответила моя колдунья все с той же неколебимой уверенностью.
— Почему? — спросил я, еще раз удивляясь ее смелым предсказаниям.
Она продолжала бинтовать предплечье своей пациентки.
— Потому что он покончит с собой, — произнесла Хильда, не дрогнув.
— Да откуда же вам знать?
Сестра Уайд ловко скрепила повязку булавкой.
— Когда я справлюсь с работой на сегодня, — ответила она медленно, сматывая остаток бинта, — я постараюсь найти время, чтобы все объяснить вам.
Глава IV
История о человеке, который не хотел покончить с собой
После того, как мой несчастный друг Ле-Гейт убил жену во внезапном приступе неудержимой ярости, полиция, естественно, начала расследование. Так уж это у них заведено: полиция не соблюдает уважения к личности и не вникает глубоко в мотивы. Им некогда заниматься казуистикой. Для них убийство есть убийство, а убийца — всегда преступник; они не привыкли классифицировать случаи и находить разницу между ними с той же точностью, как Хильда Уайд.
В тот вечер, когда мы узнали о несчастье, я поспешил навестить миссис Моллет, сестру Ле-Гейта, как только сдал дежурство в клинике. К сожалению, мне пришлось задержаться на несколько часов из-за больного, находившегося в критическом состоянии; и к тому времени, когда я добрался до Большой Стенхоп-стрит, Хильда Уайд, Как была, в своей форме медсестры, уже сидела там. Видимо, Себастьян отпустил ее на весь вечер. Она числилась внештатной сестрой, ее приняли для обслуживания палаты, где лежали больные, которых профессор наблюдал с научными целями, и потому при необходимости она могла иногда отпроситься на час-другой.
До моего прихода миссис Моллет с Хильдой сидела в столовой; но, услышав, что я вошел в дом, она бросилась наверх, в спальню, чтобы умыть заплаканное лицо и собраться с духом перед нелегкой встречей со мной. Так у меня появилась возможность перемолвиться для начала с моей пророчицей.
— Недавно, в клинике, вы заявили, что Ле-Гейта не повесят! — с порога заговорил я. — Якобы он покончит с собой. Что это означает? Что позволяет вам так думать?
Хильда опустилась в кресло у открытого окна, рассеянно вытащила цветок из стоявшей рядом вазы и принялась обрывать лепестки один за другим. Пальцы ее нервно подергивались. Это выдавало ее глубокое огорчение.
— Рассмотрим историю его семьи. — Оборвав последний лепесток, она наконец решилась взглянуть на меня. — Здесь сказалась наследственность… И после такой катастрофы!
«Она сказала «катастрофа», не «преступление»», — отметил я про себя.
— Наследственность — важный фактор, — ответил я. — О да, она многое определяет. Но при чем тут история семьи Ле-Гейтов? — Я не мог припомнить ни одного случая самоубийства среди предков Хьюго.
— Слушайте… — помолчав немного, произнесла Хильда своим странным, уклончивым тоном, и ее большие карие глаза стали сосредоточенными. — Вы знаете, что мать Ле-Гейта была дочерью генерала Фасколли. Ле-Гейт — старший из внуков генерала Фасколли.
— Верно, — подтвердил я, довольный, что она приводит надежные факты вместо смутных интуитивных догадок. — Но я не вижу связи…
— Этого генерала убили в Индии во время сипайского восстания…
— Я помню, конечно, — он погиб, храбро сражаясь.
— Да. Но речь шла о безнадежном предприятии, он вызвался участвовать в нем добровольцем, и другие участники дела рассказывали, что он пошел вперед, почти достоверно зная, что там враги устроили засаду.
— Очень хорошо, дорогая мисс Уайд, — по просьбе Хильды я никогда не называл ее «сестрой», когда мы оказывались вне стен клиники Св. Натаниэля, — вы уже знаете, что я проникся полным доверием к вашей памяти и проницательности, но я по-прежнему, признаться, не улавливаю связи этого случая с тем, что бедному Хьюго суждено либо быть повешенным, либо совершить самоубийство!
Она вытащила еще один цветок и ответила только после того, как оборвала все лепестки:
— Вы, видимо, забыли обстоятельства того боя. Это не было случайностью. Незадолго до того генерал Фасколли допустил серьезную стратегическую ошибку при Джанси[34]. Он напрасно пожертвовал жизнями своих подчиненных. Он не мог смотреть в глаза тем, кто выжил. Во время отступления он вызвался пойти на это опасное дело, хотя отряд вполне мог возглавить и офицер более низкого ранга. Сэр Колин, командовавший отходом, позволил ему это, чтобы он мог восстановить утраченное доверие солдат.
Ему это удалось, однако действовал он отчаянно, стремясь попасть под выстрелы при первой же атаке. И пал с пулей в груди. Это было, по сути, самоубийство — почетное самоубийство, ради спасения от позора в момент мучительных угрызений совести и ужаса.