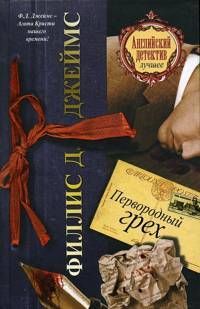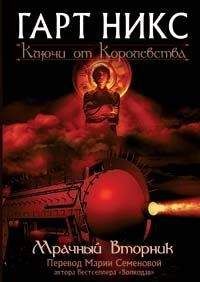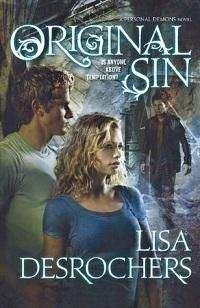Должна была бы существовать какая-то церемония, рассчитанная на тех, кто не принадлежит ни к какой религии, думал он. Возможно, такая на самом деле существует, просто они не позаботились об этом узнать. Это могло бы стать интересным и даже прибыльным для издательства мероприятием, если бы они опубликовали книгу об альтернативных похоронных ритуалах для гуманистов, атеистов, агностиков, книгу о некоей официально принятой церемонии поминовения, о празднике человеческого духа, никак не связанном с надеждой на продолжение жизни после жизни. Быстро шагая по направлению к станции метро в распахнутом и развевающемся от ветра длинном пальто, он занимал себя мыслями о том, какие прозаические отрывки или стихи можно было бы включить в такую книгу. «Взгляни в последний раз на сей прекрасный мир» Де ла Мара — чтобы придать всему этому оттенок меланхолической ностальгии. Может быть, «Non Dolet» Оливера Гогарти, «Оду к осени» Китса, если человек был стар, и «Жаворонку» Шелли — если молод. «Строки, написанные над Тинтернским аббатством» Вордсворта — в память о любителе природы. Вместо псалмов туда можно было бы включить песни, а медленная часть из бетховенского концерта «Император» вполне подошла бы для того, чтобы служить похоронным маршем. И ведь еще есть текст третьей части из Екклесиаста:
Всему свое время, и время всякой вещи под небом.
Время рождаться, и время умирать;
Время насаждать, и время вырывать посаженное;
Время убивать, и время врачевать;
Время разрушать, и время строить;
Время плакать, и время смеяться…
Он мог бы составить что-нибудь подходящее для Сони Клементс, мог бы даже включить какие-нибудь отрывки из книги, которую она заказала автору и редактировала, — в память о двадцати четырех годах, проведенных Соней в служении фирме; такое поминовение Соня одобрила бы, будь она жива. Как странно, думал он, что так важны эти ритуалы проводов усопших; они несомненно предназначены для утешения и помощи живым, поскольку самих усопших тронуть они никак не могут.
Он зашел в супермаркет у Ноттинг-Хилл-Гейт — купить пару пакетов полуобезжиренного молока и флакон жидкости для бритья и только потом тихо вошел в дом. Было очевидно, что у Руперта — гости: сверху доносились звуки музыки и шум голосов. Джеймс надеялся застать Руперта в одиночестве и подивился, как это часто случалось, что смертельно больной человек способен выносить такой шум. Во всяком случае, шум был веселый, и Руперту не так уж долго приходилось его выносить. Это ему, Джеймсу, приходилось потом справляться с неминуемыми последствиями. Вдруг он почувствовал, что не в силах встретиться ни с кем из этих людей. Он прошел на кухню и, не снимая пальто, налил себе горячего чая, открыл дверь черного хода и вышел с кружкой в тишину и темноту сада; там он опустился на деревянную скамью у самой двери. Вечер для конца сентября был теплый, и, сидя так в сгущающейся тьме, отделенный от грохота и ярких огней Ноттинг-Хилл-Гейт расстоянием всего-навсего в восемьдесят ярдов, он ощущал, что в спокойном воздухе этого маленького сада живут воспоминания и о неописуемой сладости лета, и о влажном великолепии осени. Вот уже десять лет, с того времени как крестная оставила ему это наследство, дом был для Джеймса неизменным источником радости и довольства. Он не ожидал, что будет испытывать такое острое чувство наслаждения от обладания собственностью: он с детства тешил себя мыслью, что, кроме собственных картин, владение каким-либо имуществом для него совершенно не имеет значения. Но теперь он понял, что владение этим конкретным имуществом, таким прочным и неизменным, стало в его жизни определяющим элементом. Ему нравились непритязательный, в стиле эпохи Регентства, фасад дома, окна со ставнями, гостиная на втором этаже, разделенная аркой на две части, с фасадными окнами, смотрящими на улицу, и с зимним садом в противоположном конце, откуда открывался вид на его собственный сад и на сады его соседей. Ему нравилась мебель восемнадцатого века, которую крестная привезла сюда, когда сравнительная бедность заставила ее переехать на эту улицу, тогда еще вполне захолустную, не успевшую заселиться людьми богатыми и довольно обшарпанную. Она оставила ему все, кроме ее картин, но здесь их вкусы расходились, и он не жалел об этом. Все стены гостиной были уставлены книжными шкафами в четыре фута высотой, а над ними он развесил свои гравюры и акварели. Дом все еще хранил свойственную крестной атмосферу женственности, но Джеймсу не хотелось навязывать дому собственные мужские вкусы. Каждый вечер он возвращался домой, входил в маленький, но элегантный холл с выцветшими обоями и плавно огибающей его лестницей, и чувствовал, что входит в свой собственный, защищенный и бесконечно приятный ему мир. Но это было до того, как он взял к себе Руперта.
За пятнадцать лет до этого Руперт Фарлоу опубликовал в «Певерелл пресс» свой первый роман, и Джеймс до сих пор помнил смешанное чувство радостного возбуждения и благоговейного страха, когда читал рукопись, представленную не через литагента, а прямо в издательство. Рукопись была дурно напечатана на плохой бумаге и сопровождалась не письмом или объяснительной запиской, а всего лишь подписью — Руперт Фарлоу — и адресом, словно автор заранее бросал вызов незнакомому еще читателю, предлагая признать высокие достоинства книги. Второй его роман, два года спустя, был принят уже не с такой готовностью и не столь щедро оплачен, как это часто бывает со вторым произведением после поразительного первого успеха, но Джеймс не был разочарован. Перед ним, несомненно, было подтверждение выдающегося таланта. Руперта в Лондоне больше не видели, на письма и звонки ответа не было. Ходили слухи, что он в Северной Африке, в Калифорнии, в Индии. А потом он вдруг опять на короткое время появился, но новой работы не принес. Он не написал больше ни одного романа, и теперь уже не напишет. Это Франсес Певерелл сказала Джеймсу, что, по слухам, Руперт погибает от СПИДа в уэст-лондонском хосписе. Франсес его там не навещала, а Джеймс навестил и продолжал навещать. У Руперта начался период ремиссии, но сотрудники хосписа не знали, как с ним быть: его квартира не годилась для тяжелобольного, хозяин не испытывал к нему сочувствия, а сам Руперт терпеть не мог своих сотоварищей по хоспису. Все это выяснилось без малейших жалоб с его стороны. Жаловался он только на бытовые неудобства. Казалось, он воспринимает свою болезнь не как жестокое и несправедливо постигшее его несчастье, но как предопределенный и неизбежный конец, против которого нет смысла восставать, с которым следует смириться. Руперт умирал мужественно и с достоинством, но он оставался прежним Рупертом, злым или озорным, коварным или импульсивным — как кому захотелось бы его охарактеризовать.
Очень осторожно, опасаясь, что его предложение вызовет возмущение или будет неверно понято, Джеймс предложил Руперту переехать к нему в Хиллгейт-Виллидж. Предложение было принято, и четыре месяца тому назад Руперт поселился у него в доме.
Покой, порядок, защищенность — все рухнуло. Руперту трудно было взбираться по лестнице, так что Джеймс поставил для него кровать в гостиной, и больной проводил большую часть дня там или в зимнем саду, если день стоял солнечный. На втором этаже были душ и уборная и еще комната размером чуть больше стенного шкафа, где Джеймс оборудовал кухоньку с электрочайником и двухконфорочной электрической плиткой: там Руперт мог готовить себе кофе и подогревать сандвичи. Второй этаж, таким образом, превратился как бы в отдельную квартиру, которой Руперт завладел и в которой установил свой собственный — неопрятный, ниспровергающий принятые нормы, злобно-озорной — стиль жизни. По иронии судьбы дом стал гораздо менее покойным местом после того, как в нем поселился умирающий. К Руперту шел непрерывный поток посетителей: приходили новые и старые друзья Руперта, его рефлексолог, его массажистка, за которой тянулся аромат экзотических масел; приходил отец Майкл, который являлся, чтобы выслушать исповедь больного, но его заботы Руперт воспринимал, как казалось, с той же насмешливой покорностью, что и заботы о состоянии своего тела. Друзья редко оказывались в доме одновременно с Джеймсом, исключением были только выходные дни. Впрочем, свидетельства их посещений он находил каждый вечер: цветы, журналы, фрукты, флаконы со сладко пахнущими маслами. Посетители сплетничали, готовили кофе, их угощали вином. Как-то раз Джеймс спросил Руперта:
— Отцу Майклу нравится вино?
— Во всяком случае, он точно знает, какие бутылки снизу тащить.
— Тогда все в порядке.
Джеймсу не жаль было кларета, если отец Майкл понимал, что именно он пьет.
Он снабдил Руперта ручным звонком, таким же большим и звучным, как школьный звонок. Приобретен он был на рынке Портобелло-роуд, чтобы Руперт мог ночью вызвать Джеймса из спальни на верхнем этаже, если вдруг понадобится помощь. Теперь Джеймс спал плохо, боясь услышать требовательный звон и в полусне представляя себе грохот колес по булыжной мостовой пораженного «черной смертью» Лондона, телегу с мертвыми телами и печальный вопль: «Выносите своих покойников!»