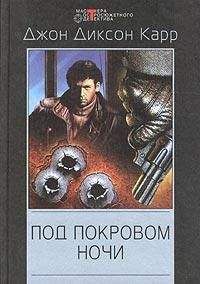Все противоречит друг другу! Все, с кем мы встречались, казалось, настороженно обнажали клыки. Но был еще один момент в смутных сомнениях, который равно тревожил и старого высохшего грифа в черной мантии. Он говорил, это чувствовалось, не из желания быть откровенным. Скорее чтобы проверить эффект, который его показания произвели на нас. Оголенный череп подался вперед, локти согнулись на столе, а длинные сухие пальцы ловко стали вращать стальной нож для разрезания бумаг.
Мы молчали. Ветерок, врывающийся в окно, шелестел бумагами, птицы радостно щебетали во дворе. На солнце набежало облачко, и тень от него медленно накрыла напряженную фигуру месье Килара. Наконец Банколен подал голос:
— Скажите, месье Килар, может, вам, случайно, известно, не находила ли ваша супруга в шкафчике для лекарств, что у вас в ванной, совок?
Эффект от вопроса был ужасающ. Килар весь напрягся и резко положил нож на стол.
— Боюсь, не совсем понял смысл вашей шутки, месье. Совок! Совок?! — Он повторял это слово, а его глаза широко распахнулись, костлявое тело заскрипело, словно погремушка гремучей змеи. — Да как там мог оказаться совок?
— Значит, вы понимаете, о чем я говорю?
— Да. Я не первый раз слышу о совке.
Я не думал, что вчерашнее ощущение ужаса может возвратиться. Но по мере того как длинная тень ползла по комнате, заполненной запыленными книгами, казалось, будто вновь появилась зловещая тень Лорана. Килар медленно продолжал говорить:
— Я вам все расскажу. Это меня буквально преследует… Итак, — он взмахнул широким рукавом, — позапрошлым вечером, в четверг 22 апреля, месье де Салиньи устраивал у себя дома холостяцкий прием. Это был прием в совершенно ином духе, чем его прежние вечеринки. Мадам Килар говорит, что одно время он часто собирал у себя друзей, и они веселились просто неприлично, можно даже сказать, разгульно, и среди гостей были спортсмены-профессионалы, автогонщики, фехтовальщики, боксеры и прочие, с которыми в наше время нам приходится сталкиваться, — с горечью отметил он, — как с равными благородным семействам Франции…
Его костлявая фигура выпрямилась. Я затаил дыхание. В глазах Килара сверкнула гордость пополам с горечью, как при взгляде на повергнутые боевые знамена. Он напоминал солдата, восклицающего „Да здравствует император!“, при этом отдавая честь, хотя знамя с орлом распростерто на земле.
— Мы принадлежим к старой школе. Мы — вымирающее поколение… Я помню тот серый дом в Буа, из которого открывается вид на Триумфальную арку, когда он принадлежал его отцу, и куда хаживали на прием государственные мужи. Его отец был великим человеком… — Килар задумался, затем быстро заговорил: — Вы не поймете, каково для нас видеть, как последние аристократы один за другим покидают этот мир. Словно одна за другой задуваются свечи в шато, пока весь дом не погрузится в темноту. Силы небесные! Это разрушает дом! Мы остаемся одинокими и потерянными! Я был свидетелем того, как в этом самом доме умирал отец Рауля; как еще долго в его просторных комнатах держался запах лекарств и смерти…
Он судорожно сжимал и разжимал кулак, и его слова падали подобно балкам старинного здания, вздымая пыль и кирпичную крошку, обнажая скрытые предметы. Холодная четкость мышления покинула Килара. Он словно пытался подсказать нечто — неуверенно, пытливо вглядываясь в нас, стараясь выразить какие-то безымянные сомнения.
— Но в тот вечер все было как в прежние времена. Никаких спортсменов, все гости из „Альманаха“ — люди, чьи отцы знали Рауля, но едва были знакомы с ним самим. Было поразительно в наше время увидеть великолепно сервированный стол и сидеть за ним с людьми, которые сознавали, что Брийа-Саварен был одним из величайших людей Франции. В наше время люди не в состоянии отличить „Шамбертена“ от „Сотерна“. Они пьют шампанское из бутылки с мягкой пробкой или из графина, который вы используете только для воды, не обращая внимания на осадок. Фу! Это просто богохульство! Они подают шабли ко всему, что угодно, но только не к устрицам. И скажу вам, господа, хозяин, который предлагает „Медок“ вместо бургундского, должен быть расстрелян без снисхождения… Прошу прощения, господа! Я отклонился от темы.
Да, это был великолепный ужин за шикарным столом, уставленным вазами с цветами. Но все держались очень скованно и мрачно. Мне нравится, должен признаться, наблюдать некоторое возбуждение, вызванное отличным вином… ничего неприличного, разумеется, как вы понимаете. Но за этим столом сидели люди с бесстрастными, как их манишки, лицами. А свечи, призванные создать уют и умиротворение, казалось, зажжены вокруг гроба. Вечеринка должна была стать веселой, но весельем здесь и не пахло.
Наконец гости разошлись, отвесив поклоны и принеся свои поздравления. Но и в помине не было той истинной вежливости, которую мы знавали в наше время… Во всяком случае, мы остались лишь вдвоем, некий месье Вотрель — вы его, вероятно, знаете — и я. Мы сидели за длинным столом в доме, пропитанном запахами лекарств и смерти, окруженные цветами…
В стеклах распахнутых окон гостиной отражался мягкий блеск свечей, словно соперничая с темно-фиолетовым небом, где сверкала одна-единственная звезда. Поднялся ветерок. Он шуршал в высокой траве, поднимая пену цветков к вершинам темных деревьев, застывших в трепетном шепоте. Над белоснежной скатертью, над обивкой кресел трепетало пламя свечей, пока, казалось, все не стало колыхаться, кроме лиц моих компаньонов и их пальцев, стискивающих ножки бокалов. Но холодное присутствие пришло подобно еще одной тени под светом. И в ожидании ее приближения мы беседовали о знаменитых убийствах.
Здесь Килар словно стряхнул свою сухую скорлупу — человек, который так тосковал о прошлом, что вынужден был склониться к мрачной поэзии…
— О знаменитых убийствах! Стол, уставленный вазами с розами, навел Вотреля на мысль о Ландрю, который украсил ими комнату своей возлюбленной. Мы вспоминали Тропмена, Бассона, Вачера, Криппена, Спрингхил Джека, майора Армстронга с его иглой для уколов, Смита с его оловянными ванными, Дюрана, Харманна и Ла Поммерэ, Крема, Тортелла и Ханта, отравителей Хоша и Вейнрайта и притворно застенчивую Констанс Кент… Так мы сидели, с этим безумным отвращением, которое заставляет людей заниматься подробностями, и Вотрель говорил об „артистичных преступлениях, поставленных как пьеса“ и смеялся… так что рука Рауля дрожала, когда он подносил к губам бокал с красным вином, среди этого колеблющегося пламени свечей и витающих над нами теней…
Морщинистое лицо Килара приобрело мраморный блеск, и на висках выступили голубые жилки. Его черная мантия шуршала, и глаза под изогнутыми веками смотрели на нас гипнотически пристальным взглядом.
— Мы углубились в историю и романы. Это было ужасно… Вотрель был почти совершенно пьян. Все мы говорили пониженным голосом, и Рауль сидел, откинувшись на спинку стула, с прижатой к груди рукой, в которой стискивал бокал, и глаза его бешено сверкали. Вдруг Вотрель вкрадчивым голосом говорит: „Думаю, самые артистично поставленные убийства произошли от По… Вы читали По, не так ли, Рауль? — и улыбается. — В его рассказе о Амонтилладо Монтрессор уносит Фортунато в подземелье, чтобы навечно похоронить его в стене, возведя стенку из камней и костей… Вам знаком этот рассказ, Рауль? Фортунато, не подозревая о своей судьбе, спрашивает компаньона, не принадлежит ли тот к братству каменщиков. Монтрессор отвечает утвердительно. И Фортунато восклицает: „Это предзнаменование!“ И тогда Монтрессор со свойственным ему мрачным юмором извлекает из-под плаща совок. Я говорю, вы хорошо помните этот рассказ, Рауль, не правда ли?“ И он хохочет с надменностью совершенно пьяного человека…
Господи помилуй! Нужно было видеть лицо Рауля, когда он смотрел на Вотреля, — страх, смешанный с изумлением, как будто он подозревал нечто такое, во что не мог поверить. Рауль неуверенно встал, и его бокал покатился по столу между розами. Локтем он задел канделябр, и я закричал: „Осторожнее! Вы сожжете весь дом!“ Я наклонился вперед, чтобы сбить пламя, крикнул дворецкого и почувствовал под пальцами расплавленный воск… Но эти двое только пристально смотрели друг на друга. Рауль прикрыл лицо рукой, а Вотрель дьявольски подмигивал.
Килар наконец овладел собой, картина его видений исчезла. Он вновь стал сухим и деловитым в этой своей комнате, пропахшей пылью книг и запахом мышей.
— Вот и все, господа, — напоследок блеснул он лысиной, склоняя голову. — Пожара, конечно, не случилось. Огонь свечи только испортил очень дорогую скатерть.
Был уже полдень, когда мы оказались в парке дома, о котором рассказывал Килар.
Больше мы ничего не добились от адвоката. Он старался нам помочь, очень старался, но его рассказ не смог пролить свет на убийство. Когда Килар почтительно провожал нас, я чувствовал, что он с облегчением считает себя выполнившим свой долг. Банколен тоже вел себя весьма сдержанно и молчал. Он резко одернул Графенштайна, который возбужденно пустился в рассуждения: