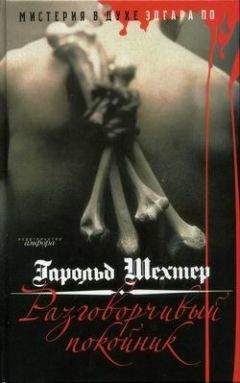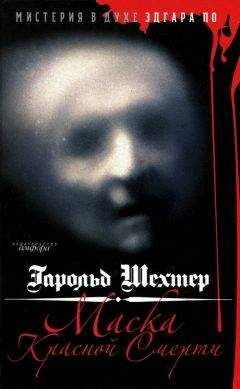То, что мой друг Ф. Т. Барнум не гнушался никаким, даже самым отъявленным жульничеством, было известно всему белому свету. Более того, он положительно гордился своей репутацией «короля мошенников», битком набив свою пользующуюся бешеной популярностью выставку чудес на углу Бродвея и Энн-стрит бесчисленными предметами самого сомнительного происхождения – от расшитой бисером головной повязки, которая, предположительно, была на Покахонте, когда она спасла капитана Джона Смита от смертоносной палицы своего отца, до серебряного кинжала, которым, по преданию, Брут нанес coup de grace1 Юлию Цезарю в Римском сенате.
Тем не менее – несмотря на очевидную радость, какую обладатель всех этих чудес испытывал, мороча публику, – его ни в коей мере нельзя было считать законченным шарлатаном. Великое множество его экспонатов доподлинно были диковинами и среди них несравненное сборище кунсткамерных персонажей, или, попросту выражаясь, «уродов».
С этой точки зрения гротескно увечное существо, в чьей компании я оказался – мистер Отис Трогмортон, Удивительный Многоликий Человек, – представлял живописное зрелище. Ничего поддельного не было в его причудливом врожденном дефекте. Этот порок развития – настолько страшный, что взрослым посетителям музея Барнума, мужчинам и женщинам, при виде его случалось падать в обморок, – носил физическое сходство с обычной заячьей губой, однако лишь в том смысле, в каком Большой каньон напоминает русло обычной реки. Начиная от подбородка и почти до самых волос жуткая борозда прорезала его лицо, деля рот практически напополам, превращая нос в два кажущихся самостоятельными органа и поднимая левый глаз более чем на два дюйма над правым. Словом, у него была наружность человека, которого со всего размаху ударили топором или разделочным ножом и чье разрубленное лицо впоследствии срослось самым поразительным образом.
Вдобавок на лбу, прямо в середине, выдавался небольшой мясистый нарост, по форме жутковато напоминающий глаз циклопа. В общем это единственное в своем роде существо обладало физиономией, которую трудно было созерцать без смешанного чувства трепета, ужаса и отвращения.
Благодаря глубокому впечатлению, которое Отис производил на сторонних наблюдателей, он, подобно большинству своих друзей-уродцев, редко осмеливался появляться на публике. Музей был не только местом его работы, но и домом; Барнум предоставил ему и прочим человеческим диковинам просторную и комфортабельно обставленную спальню на третьем этаже своего заведения, где и размещалась кунсткамера. Но, даже с учетом этого, бывало, что ходячие физические аномалии испытывали необходимость в том, чтобы покинуть музейное убежище и побегать или просто побродить без цели, дабы насладиться бодрящей прогулкой на свежем воздухе (если такое выражение применимо к смрадной атмосфере большого города).
Позволив Отису провести себя через музейный вход, я проследовал за ним по мраморному полу вестибюля. Час был поздний, и посетители встречались лишь изредка. Обойдя большую деревянную платформу, где стояло огромное полотно, в натуральную величину изображавшее гибель древней Помпеи, мы прошли к расположенной в дальнем конце холла лестнице и спустились в подвал, где находилась контора Барнума.
Следуя за Отисом, я долго шел по узкому, похожему на лабиринт коридору, пока, свернув за угол, не увидел контору Барнума. Свет из открытой двери мягким желтым сиянием разливался в потемках, и я ясно расслышал неподражаемый голос хозяина, обращавшегося к невидимому собеседнику.
– Пришлось поручить это Моисею, – произнес Барнум с одобрительным смешком знатока. – Старый мошенник умеет отличить хорошую вещь от дерьма. Представь только, как он елозит своими митенками по всем последним приобретениям этого юного дикаря. Да, тут ему будет чем разжиться! Конечно, все первосортное попридержит для себя – это чертово кровавое платье, скальпель и так далее.
Что ж, кто бросит в него камень? Разве можно винить человека за то, что он ставит собственные интересы превыше всего остального, а, Фордайс? На его месте я поступал бы точно так же. Главное, будет на что посмотреть, особенно если удастся заинтересовать этого старого пройдоху. Уверяю тебя, это будет сенсация, каких еще мир не видывал! Придется держать заведение открытым до полуночи, чтобы вместить толпы желающих! Жаль только, нельзя содрать кожу с бедняжки. Теперь-теперь это было бы нечто! Подумать только – какой-нибудь квадратный дюйм или два стоили бы… Боже правый, это ты, Отис? А это кто еще с тобой? Благодарение Господу, глазам своим не верю, ты ли это, По, какими судьбами?
Мы уже успели подойти к кабинету и стояли в дверях.
– Да мы это, мы, – произнес мой спутник, откидывая капюшон, скрывавший его неподражаемое лицо, в то время как я молча стоял рядом.
– Так проходите же, проходите, без церемоний! – воскликнул директор, вставая из-за стола и сопровождая приглашение патетическим жестом.
Отступив в сторону, Отис предоставил мне право первым переступить порог. Входя, я заметил, что человек, к которому обращался директор, – его старинный друг и поверенный, «Пастор» Фордайс Хичкок, высохший как мумия, с бакенбардами; перед тем как поступить на службу к Барнуму, он, по общему мнению, много лет прослужил священником универсалистской церкви, проповедовавшей спасение души человеческой. Он стоял возле стола и, повернувшись, впился в нас взглядом, полным глубокой озабоченности, пока директор поспешал нам навстречу.
– Поверь мне, По, вид у тебя измотанный, краше в гроб кладут! Иди сюда, – сказал он, подводя меня к чиппендейловскому дивану, стоявшему на когтистых лапах возле дальней стены кабинета. – Присядь, передохни.
С благодарным стоном я опустился на расшитое ложе, пока Барнум устраивался рядом со мной.
– Что, черт побери, случилось? – спросил он.
Отис вкратце объяснил, как, дождавшись наступления темноты, когда маловероятно привлечь внимание прохожих, он вышел прогуляться и, возвращаясь в музей, столкнулся со мной.
– А ты, нет, правда? – спросил Барнум, окидывая меня критическим взглядом. – Ты-то где был?
– В какой-то жалкой забегаловке… «У Гофмана», – ответил я дрожащим голосом.
– Понятно, – мрачно сказал Барнум.
В этот момент Отис, еще раз извинившись за то, что случайно налетел на меня, пожелал нам спокойной ночи и вышел.
Не успел он исчезнуть, как Барнум бросил быстрый взгляд на своего компаньона и сказал:
– Сделайте одолжение, Фордайс. Ничего особенного, просто небольшое поручение. Как вы сами видите, наш друг, По, сейчас совсем как мокрая курица. Ему надо слегка взбодриться, прежде чем возвращаться в лоно семьи. Пара чашек крепкого черного кофе – и порядок. Будьте так добры, принесите от Суини. Пусть запишет на мой счет.
Расположенная на Энн-стрит, недалеко от музея, закусочная Суини была популярной в соседних кварталах и, как я понял, отобедав там пару раз с директором, излюбленным местом его отдохновения.
– Рад стараться, – ответил несколько смахивавший на покойника компаньон. Напялив касторовую шляпу, он накинул плащ, взял трость и, размашисто шагая, вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь.
Только когда Хичкок удалился, Барнум, придав своему грубоватому лицу выражение глубокой скорби, обратился ко мне со следующими словами:
– Нет нужды говорить тебе, правда, как я опечален, как глубоко я скорблю, услышав, что ты опять прикладываешься к бутылке. Непостижимо! Ведь ты же гений! Один из самых великих умов нашего, да и не только нашего времени! А ты сам вливаешь в себя эту отраву, чтобы разрушить свой титанический ум! Зачем? С тем же успехом можно было приставить револьвер к виску и покончить со всем разом!
– Только не думайте, – жалобно произнес я, – что мысль о самоуничтожении не мелькала у меня.
– Но зачем, По, зачем? Если собственное благополучие для тебя ничего не стоит, то подумай по крайней мере о тех, кого ты любишь, – твоей чудесной тетушке и красавице жене!
– Я еще кое о чем думаю, – сказал я. – Разве не напряженное, непрестанное созерцание рока, подстерегающего мою дорогую Вирджинию, довело меня до этого отчаянного состояния?
– Но что, что ты имеешь в виду? – спросил Барнум.
– Она страшно, возможно безнадежно больна! – воскликнул я. – Женщина, которую я люблю как никто другой! И почти или совсем ничего нельзя сделать, чтобы спасти ее!
– Боже милостивый! – сказал Барнум – таким потрясенным мне еще не приходилось его видеть. – Я и понятия не имел! Но ты абсолютно уверен, что ее состояние так безнадежно, как тебе кажется?
– Сомнений нет, – ответил я. – Четыре года назад, когда она пела, у нее лопнул кровеносный сосуд. И ее жизни грозила смертельная опасность. Я распрощался с ней навсегда и пережил адские муки, предвидя ее неизбежную кончину. Милостью Божьей она частично оправилась, и у меня появились основания надеяться, что все будет хорошо. Однако в конце года сосуд лопнул снова. Я прошел через те же самые мучения. Снова примерно год спустя. А затем снова, снова и снова через разные промежутки времени. И каждый раз я переживал все ужасы, связанные с мыслью о ее смерти, и при каждом приступе любил ее с еще большей силой и все более отчаянно цеплялся за ее жизнь.