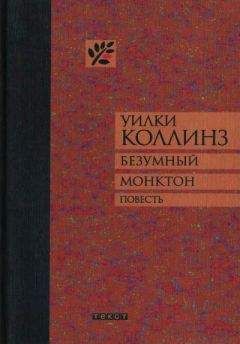— Нет, нет! Самое странное и наивное создание…
В этот миг послышался слабый стук в дверь.
Бригитта приложила палец к губам и раздраженно крикнула:
— Войдите!
Дверь мягко отворилась, и в комнату вошла молодая девушка, бедно, но мило одетая. Она была худенькая и ниже среднего роста, но головка и фигура были удивительно пропорциональны. Ее волосы были того великолепного рыжевато-каштанового цвета, а глаза — той глубокой фиолетовой синевы, которые на портретах Джорджоне и Тициана[2] прославили венецианский тип красоты. Черты ее обладали той четкостью и правильностью, той — по выражению художников — «хорошей лепкой», которая в Италии, как и везде, составляет редчайшую женскую прелесть. Ее щекам, безупречным по форме, не хватало краски. Не было на них налета цветущего здоровья, необходимого для увенчания красоты, — только этого одного лишено было ее лицо.
Она вошла с грустным и усталым выражением глаз, оживившимся, однако, в тот же миг, как она увидела великолепно одетую французскую мастерицу. Изумление, почти благоговение, отразилось в ее глазах. Она оробела и явно была в замешательстве. Помедлив мгновение, она молча повернулась назад к двери.
— Постой, постой, Нанина! — по-итальянски обратилась к ней Бригитта. — Не бойся этой дамы! Это наша новая мастерица; она может многое сделать для тебя. Подними же глаза и скажи, чего бы ты хотела. Тебе недавно исполнилось шестнадцать, а ты ведешь себя, как двухлетний ребенок!
— Я зашла только узнать, нет ли для меня сегодня работы, — проговорила девушка мелодичным голосом, который слегка задрожал, когда она снова попыталась взглянуть на элегантную французскую мастерицу.
— Такой работы, с которой ты справилась бы, детка, сейчас нет, — сказала Бригитта. — Ты пойдешь в студию?
Краска, которой так не хватало щекам Нанины, чуть проступила на них, когда она ответила «да!».
— Не забудь моего поручения, дорогая! И если мастер Лука Ломи спросит мой адрес, скажи, что ты можешь доставить мне письмо, но что покамест тебе запрещено входить в подробности о том, кто я и где живу.
— А почему же запрещено? — наивно спросила Нанина.
— Не задавай вопросов, малютка! Сделай то, что тебе сказано. Принеси мне завтра из студии хорошее письмецо или устный ответ, а я поговорю с этой дамой, чтобы устроить тебе работу. Ты дурочка, что ищешь ее у нас, когда могла бы заработать гораздо больше здесь или во Флоренции, позируя для художников и скульпторов. А впрочем, что они могут писать или лепить с тебя, выше моего понимания.
— Я больше люблю работать дома, чем ходить позировать, — с самым растерянным видом пролепетала Нанина и выскользнула из комнаты, сделав прощальный реверанс, хотя скорее можно было подумать, что это у нее от ужаса подкосились ноги.
— Эта робкая девочка была бы хорошенькой, — заметила мадемуазель Виржини, — если бы она знала, как улучшают цвет лица, да если бы на ней было приличное платье. Кто она?
— То лицо, которое должно ввести меня в студию мастера Луки Ломи, — смеясь, ответила Бригитта. — Не правда ли, довольно забавная союзница для моей затеи?
— Где ты с ней познакомилась?
— Здесь, конечно! Она постоянно торчит тут, в ожидании какой-либо несложной работы, которую она утаскивает в самую нелепую комнатушку в одном из переулков близ Кампо-Санто[3]. Однажды я из любопытства пошла за ней, дала ей войти и вскоре постучалась у ее двери, будто я в гости пожаловала. Ты представляешь себе, как она смутилась и испугалась! Я была сама любезность, проявила необычайный интерес к ее делам и таким образом проникла к ней в комнату. Ну и жилище! Небольшой уголок отделен занавеской, и это спальня. Один стул, одна табуретка и одна сковородка на огне. Перед очагом — косматый пудель, чудовищно безобразный, а на табуретке прелестная девчурка плетет циновочки под тарелки и блюда. Вот и все хозяйство, включая мебель и прочее. «Где твой отец?» — спросила я. «Сбежал и бросил нас много лет назад», — ответила моя маленькая приятельница. Она сообщила это со своим обычным простодушием и полнейшей невозмутимостью. «А мать?» — «Умерла!» Сказав это, она подошла к маленькой плетельщице и начала играть ее длинными льняными волосами. «Это, наверно, твоя сестренка? — спросила я. — Как ее зовут?» «Меня называют Ла Бьонделла», — отозвалась малютка, отрывая глаза от работы. (Ла Бьонделла, Виржини, значит «белокурая»!) «А зачем этот огромный, косматый и уродливый зверь валяется у вас перед очагом?» — спросила я. «О! — воскликнула маленькая плетельщица циновок. — Это наш любимый старый пес Скарамучча! Он сторожит дом, когда Нанина уходит. Танцует на задних лапах и прыгает сквозь обруч и падает мертвым, когда я крикну «куш!». Скарамучча несколько лет назад увязался за нами, когда мы шли домой, да так с тех пор и остался у нас. Он каждый день уходит один, неизвестно куда, и обычно, возвращаясь, облизывается. Поэтому мы боимся, не вор ли он; но его никто еще не накрыл на таком деле, потому что это умнейшая собака на свете!» Девчурка без конца тараторила о зверюге, разлегшейся у камина, пока я не остановила ее. А эта дурочка Нанина стояла рядом, смеялась и подзадоривала ее. Я задала им еще несколько вопросов, на которые получила довольно странные ответы. По-видимому, они никогда не слыхали о каких-либо родственниках. Соседи в доме помогали им после исчезновения отца, пока они не подросли настолько, что стали управляться сами. И они, кажется, нисколько не считают себя несчастными от такой убогой жизни. Последнее, что я слышала, уходя от них в тот день, был возглас Лa Бьонделлы «куш!», потом отрывистый лай, глухой стук о пол и взрыв смеха. Если бы не эта собака, я чаще навещала бы их. Но скверный пес невзлюбил меня: рычит и скалит зубы, как только я подхожу близко.
— Девочка показалась мне нездоровой, когда была здесь. У нее всегда такой вид?
— Нет, она изменилась за последний месяц. Я подозреваю, что наш интересный молодой человек произвел на нее впечатление. Чем чаще она в последнее время позировала ему, тем больше бледнела и теряла спокойствие.
— О, так она позировала ему?
— Она позирует и теперь. Он лепит бюст какой-то языческой нимфы или что-то в этом роде и настаивал, чтобы Нанина позволила ему скопировать ее голову. Дурочка, по ее же словам, сначала так испугалась, что ему стоило огромных усилий добиться ее согласия.
— А теперь, когда она согласилась, не думаешь ли ты, что она может оказаться довольно опасной соперницей? Мужчины так глупы и способны забрать себе в голову такие фантазии!..
— Смешно! Этакая божья коровка, без манер, без уменья два слова связать, ни о чем не имеющая понятия! Что у нее есть, кроме красоты младенца?.. Опасна для меня? Нет, нет! Если мне и грозит опасность, то скорее со стороны дочери скульптора. Не стану скрывать, что мне очень хотелось бы взглянуть на Маддалену Ломи. А Нанина?.. Она будет мне только полезна. Все, что я пока узнала насчет студии и работающих там художников, я узнала через нее. Она передаст то, что я ей поручила, и устроит мне доступ туда. Когда дело настолько продвинется, я подарю ей старое платье и пожму руку. А потом — прощай, невинное созданье!
— Так, так! Я буду рада, если ты окажешься умнее меня в этом вопросе. Но только я не очень доверяю невинности! Подожди минутку, сейчас лиф и рукава будут готовы для передачи швеям. Ну вот, позвони и вызови их сюда! Мне нужно дать им указания, и ты будешь моей переводчицей.
Пока Бригитта направлялась к звонку, энергичная француженка уже начала обдумывать юбку нового платья. Она посмеивалась, отмеривая полосы шелка.
— Чему ты смеешься? — спросила Бригитта, открывая дверь и дергая ручку звонка в коридоре.
— Сдается мне, моя дорогая, что, при своем невинном личике и безыскусственных манерах, твоя маленькая приятельница все-таки лицемерка.
— А я вполне убеждена, милочка, что она самая настоящая простушка!
Студия скульптора Луки Ломи состояла из двух больших комнат, неровно разделенных деревянной перегородкой, в середине которой была вырезана арка для прохода.
В то время как модистки заведения Грифони прилежно кроили платья, скульпторы в мастерской Луки Ломи трудились по-своему не менее усердно, облекая в форму мрамор и глину. В меньшей из двух комнат молодой дворянин (которого все в студии, обращаясь к нему, называли просто Фабио) был поглощен работой над бюстом, а в роли натурщицы перед ним сидела Нанина. Его лицо не принадлежало к тем традиционным итальянским лицам, которые обычно глядят на мир с мрачной подозрительностью и коварством. И склад и выражение свободно и откровенно свидетельствовали о характере молодого человека перед всеми, кто его видел. Быстрая сообразительность сверкала в глазах, а в несколько капризном изгибе губ играла добродушная веселость. В общем, лицо юноши отражало не только достоинства, но и недостатки его натуры, ясно показывая, что если он был приветлив и разумен, то, с другой стороны, ему не хватало решительности и упорства.