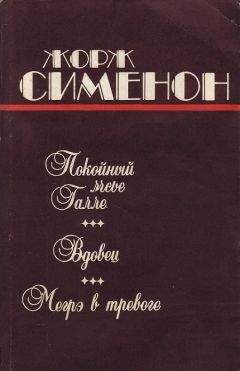Женщина выступила из мрака, маленькая, жалкая, с жестким взглядом испуганного животного. Она не открыла дверь, только отодвинула стекло, образующее форточку.
— Если бы у меня была для вас почта, я бы поднялась к вам.
— Я хотел спросить у вас…
— Ну так спрашивайте! Что вам нужно?
Он сразу пал духом.
— Я только хотел спросить, вы не видели мою жену, когда она выходила?..
— Я не обращаю внимания, кто из жильцов входит, а кто выходит, а до женщин мне вовсе нет дела.
— Видимо, она ничего вам не говорила?
— Если бы говорила, я бы вам сказала.
— Благодарю вас.
Он произнес эти слова без иронии, по привычке, — таков был его характер. Сейчас она без причины обидела его. Но он на нее не сердится. Если кто-нибудь был виноват, так это он — он сам. Он вступил в темный коридор, дошел до светящегося выхода на Бульвар и, чтобы унять нетерпение, сделал круг, обойдя ворота Сен-Дени и вернувшись обратно через улицу Сент-Аполлин.
Это была как бы лицевая сторона этих мест и их изнанка. Одни и те же здания выходили на две стороны. Бульвар Сен-Дени — завлекательные витрины, ресторан с позолотой, а по вечерам — вакханалия светящихся реклам всех цветов.
Улица Сент-Аполлин — ремесленники, упаковщики, подальше — будка сапожника рядом с прачечной, где женщины гладили целыми днями, в то время как на тротуаре, напротив, две-три проститутки на высоченных каблуках ходили взад и вперед перед гостиницей, а мужчины играли в карты в полусвете маленького бара.
Его никто не знал. Зато он знал каждую фигуру, каждое лицо, потому что наблюдал за ними из своего окна, того самого, которое находилось над его диваном.
Может быть, Жанна успела вернуться за то время, пока он делал этот круг? Чтобы иметь больше шансов, он решил сделать второй круг, третий. Во время третьего обхода он остановился у молочной, где Жанна покупала продукты. Лавка была еще открыта. Здесь торговали не только маслом, яйцами, сыром, но и вареными овощами для тех, кому некогда готовить или кто, живя в гостинице, не имел на это права.
— Полагаю, вы не видели мою жену, госпожа Дорен?
— Нет, только утром, когда она приходила за покупками.
— Благодарю вас.
— Но вы не беспокоитесь, скажите?
— Нет. Конечно нет.
Говоря это, он готов был заплакать от волнения.
Это было то самое чувство бессилия, которое всегда так мучительно угнетало его. Жанна куда-то ушла. Право же, в этом не было ничего особенного: недоразумение, случайность, задержка. Она забыла написать записку.
Что мешает ему до ее прихода подняться к себе, пообедать тем, что найдется в ящике для провизии? Или зайти в первый попавшийся ресторанчик? Или же, если ему не хочется есть, пойти домой и почитать в своем кресле?
Забыв купить вечернюю газету, он вернулся в свою квартиру, где все еще никого не было и где одно окно стало совсем красным. Этот день казался ему длиннее других. Было около восьми часов, а солнце никак не могло зайти, люди на тротуарах по-прежнему пили пиво и аперитивы, мужчины все еще ходили без пиджаков.
Жанна никогда не болела. Мало вероятно, чтобы она потеряла на улице сознание. Но даже если бы это случилось, разве не было у нее с собой удостоверения личности? Вот уже два года, как в их квартире поставили телефон.
Нахмурив брови, он пристально посмотрел на аппарат на столе. Если ее где-то задержали, если у нее какое-то затруднение, почему она не позвонит?
Из этого можно было сделать следующий вывод: уверенная в том, что он поднимется к мадемуазель Кувер, она оставила у нее записку.
Он не очень верил в это, но все же поднялся по незнакомой ему части лестницы и увидел цинковую дощечку, на которой выгравированы были фамилия старой девы и слово «Портниха».
Пока он топтался на соломенном коврике, не решаясь постучать, он слышал звон тарелок, а также голос мальчика Пьера, который настойчиво спрашивал:
— По-твоему, я смогу пойти туда?
— Еще не знаю. Возможно.
— Но как, по-твоему, скорее да, чем нет?
— Может быть. Я бы предпочла сразу сказать тебе — да.
— Так почему же не говоришь?
Смущенный тем, что невольно подслушивает их разговор, он постучал.
— Иду! — крикнул мальчик.
Дверь сразу же распахнулась, страницы иллюстрированного журнала на круглом столике затрепыхались, вздрогнули седые волосы старой девы, которая перестала есть.
— Это господин Бернар! — объявил Пьер.
— Извините, пожалуйста… Я подумал, не оставила ли вам случайно жена записочки для меня…
Мальчик посмотрел на него необычайно острым для его лет взглядом, потом взглянул на мадемуазель Кувер, не зная, закрывать дверь или нет.
— Она не вернулась? — с удивлением спросила портниха.
— Нет. Вот это и удивляет меня…
К чему объяснять? У них с Жанной были привычки, не слишком подвластные логике и способные вызвать улыбку. Среда была его днем — днем, когда он делал обход фирм, где работал, как проделал его и сегодня.
Если Жанне надо было пойти по делам, почему бы ей тоже не уйти из дому в тот же самый день, но фактически за все восемь лет, насколько он знал, этого никогда не бывало.
К тому же, она редко выходила за пределы своего квартала, и в тех случаях, когда речь шла о более или менее важных покупках в больших магазинах на улице Лафайет или где-нибудь в другом месте, говорила ему об этом заранее, за несколько дней.
И она не пошла бы туда в своем стареньком черном платье.
— Вы не зайдете на минутку?
— Нет, спасибо. Должно быть, пока я поднимался к вам, она уже пришла…
Ее еще не было, и свет в квартире менялся по мере того, как двигались черные стрелки на циферблате часов. В небе, над крышами, холодный зеленый цвет постепенно сменил розовые краски заката, и только несколько легких облачков еще несли на себе его отблеск.
Это испугало его, внушило почти физическое чувство страха, и, больше не в силах сдерживаться, он снял с гвоздя шляпу, спустился вниз и ринулся в толпу, шагая быстрее, чем обычно, и потому немного прихрамывая.
Другим людям все это было бы легко: им стоило только обратиться к родным, к сестре или свояченице, к друзьям, сослуживцам.
Ему — нет. У него не было никого, кроме мадемуазель Кувер и мальчика, который только что проводил его задумчивым взглядом.
Прохожие — парами, семьями — занимали всю ширину тротуаров и двигались вперед с медлительностью реки, еще более замедляя шаг в тех местах, где столики кафе, загораживая дорогу, образовывали заторы. Машин становилось меньше. Было еще светло, но кинотеатры уже сверкали огнями, и перед окошечками касс начинали выстраиваться небольшие очереди.
Свернув с Бульвара, он углубился в более тихие улицы, где там и сям сидели на вынесенных стульях пожилые люди, хотевшие подышать воздухом. Из лавок, что были еще открыты, доносились разнообразные запахи; отовсюду слышались голоса, обрывки фраз.
Он дошел до улицы Торель, увидел серую стену административного здания, флаг, висевший на древке, служащих на велосипедах, заметил двух полицейских, которые выходили, застегивая пояса. Один из них посмотрел на него так внимательно, словно его лицо о чем-то напомнило ему, потом сел на велосипед, по-видимому, так ничего и не вспомнив.
Он вошел в полицейский участок, где, как и у консьержки, горели лампы и где плавал дым трубок и папирос. Мужчина неопределенного возраста пытался объясниться поверх черного деревянного барьера, из-за которого виднелось чье-то кепи.
— Так есть у вас письменное разрешение работать или нет?
— Господин полицейский…
Это были, пожалуй, единственные слова, которые этот человек мог выговорить по-французски. Все остальное он произносил на каком-то непонятном наречии, жестикулировал, горячился, протягивал дрожащей рукой какие-то бумаги — скомканные, рваные, со следами грязных пальцев, без конца вытаскивая их из глубины карманов.
— …сказал, что…
— Кто сказал?
Тот жестами пытался объяснить, что речь идет о персоне очень высокой или же очень важной.
— …господин…
— Но он не сказал, что тебе разрешается работать?
Ни одна бумага не удовлетворяла полицейского чиновника. Среди них были белые, розовые, на французском и еще бог весть на каком иностранном языке.
— Сколько у тебя денег?
Он не понял даже слово «деньги», и женщина, стоявшая сзади, нетерпеливо топнула ногой, делая полицейскому знаки.
Человеку показали бумажные деньги. Он понял, вытащил из кармана целую пригоршню мятых, липких бумажек, потом несколько монет и выложил все это на барьер.
— Может, этого и достаточно, чтобы тебя не обвинили и бродяжничестве, но с такой суммой ты далеко не уйдешь, и тебя снова отправят за границу. Откуда у тебя деньги?
— Послушайте, бригадир, — перебила полицейского молодая женщина, — мне надо без четверти девять быть в театре, и я…