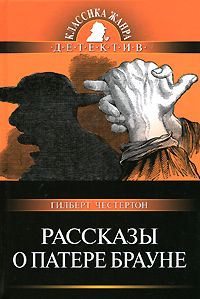– Клянусь небом, – смеясь, воскликнул доктор, – я не возьму в толк, вы защищаете или осуждаете его?
– Сказать о человеке, что он гений, не значит защищать его, – пояснил патер Браун. – Отнюдь. Художник или поэт поневоле выдает себя. Леонардо да Винчи не сумел бы нарисовать неумело. Как он ни старайся – получилась бы лишь изысканная пародия на слабую вещь. Так и методист в изображении Стрейка был бы неправдоподобен.
Немного погодя патер Браун шел домой. Свежий морозный воздух пьянил. Деревья стояли как серебряные канделябры на празднике очищения. Холод пронизывал, как тот серебряный меч чистого страдания, что пронзил некогда сердце неизреченной Чистоты. Но холод был не убийственный, разве в том смысле, что уничтожал все смертное, мешающее расцвету нашей бессмертной и неисчерпаемой жизненности. Бледно-зеленое послезакатное небо, на котором зажглась лишь одна звезда, как звезда Вифлеемская, неизвестно почему представлялось светозарной пещерой. Будто там, в глубине, зеленым пламенем пылало Горнило Холода, пробуждая все существа к жизни и теплу, и чем больше они погружались в холодно-кристальные волны красок, тем они становились легче, подобно крылатым созданиям, и прозрачнее, подобно цветному стеклу. Там возвещалась истина; там заблуждение отсекалось от истины ледяным лезвием. И в том, что оставалось, жизнь, как никогда, била ключом. Словно ледяная гора заключала в себе всю радость мира, как прекрасную драгоценность…
Патер Браун сам не совсем разбирался в своем настроении, по мере того как все больше погружался в зеленый сумрак, все большими глотками пил девственный, живительный воздух. Забытые, остались далеко позади грязь и скорбь жизни. Они стерлись, исчезли, как исчезают занесенные снегом следы ног человека.
И, с трудом пробираясь по снегу к себе домой, патер Браун шептал про себя: «А все-таки он прав, есть белая магия, но надо знать, где искать ее…»
Два художника-пейзажиста молча созерцали морской вид. На обоих он производил сильное впечатление, хотя воспринимали они его по-разному. Одному из них – приезжему из Лондона – он был совершенно незнаком и чужд. Другому – местному жителю, известному, однако, далеко за пределами его родины, – этот вид был знаком гораздо ближе, но тем не менее в данный момент также казался чужим.
В смысле колорита и внешних очертаний пейзаж, которым любовались художники, представлял собой полосу желтого песка на фоне солнечного заката. В нем смешались различные краски: мертвенно-зеленая, бронзовая и желто-серая, казавшаяся в этом сочетании не только мрачной, но и таинственной – более таинственной, чем золото. Ровный очерк пейзажа нарушало только длинное здание, подступавшее к берегу моря. Самое удивительное в этом здании было то, что верхняя его часть, вся в бесчисленных окнах и широких трещинах, имела вид руины и на фоне угасающего заката казалась каким-то черным скелетом, в то время как нижняя часть почти совсем не имела окон. Те, что сохранились, были замурованы, и различить их почти не представлялось возможным в сумеречном свете. Впрочем, одно нормальное окно все-таки было, но выглядело оно еще таинственнее других, потому что в нем горел свет.
– Кто может жить в этих развалинах? – воскликнул лондонец – крупный, богемного вида мужчина с всклокоченной рыжей бородкой, из-за которой он казался старше, чем был на самом деле; в Лондоне он был известен под именем Гарри Пейн.
– Вы, вероятно, думаете – привидения? – ответил его друг Мартин Вуд. – Что ж, обитатели этого дома, пожалуй, действительно похожи на призраков.
Казалось парадоксом, что художник из Лондона проявляет совершенно буколическую свежесть восприятий, какую-то провинциальную наивность и моложавость, тогда как местный художник выглядит человеком более сдержанным, опытным и относится к своему коллеге с дружеской насмешливостью старшего товарища. Он и с виду казался как-то спокойней и уравновешенней. Он был чисто выбрит и одет в черный костюм.
– Это знамение времени, – продолжал он. – Уходят старые времена, а с ними – старые имена. Последние отпрыски знаменитого рода Дарнуэй живут в этом замке. Бедны они невероятно. У них не хватает даже средств отремонтировать верхний этаж своего жилища. Они живут на нижнем этаже точно совы. Зато у них есть фамильные портреты из эпохи войн Алой и Белой Розы и первых шагов портретной живописи в Англии. Некоторые из этих картин совсем неплохие. Я узнал это случайно, потому что Дарнуэй неоднократно обращались ко мне за советами как к специалисту. Там есть портрет – один из самых ранних; он до того хорош, что прямо мороз по коже подирает.
– Да от одного вида этих руин мороз по коже подирает, – заметил Пейн.
– Пожалуй, вы правы, – сказал Вуд.
Воцарившееся молчание было через несколько минут нарушено звуком шагов. И художники невольно содрогнулись (эта дрожь была вполне объяснима), когда на берегу внезапно появился темный силуэт, двигавшийся очень быстро, точно вспугнутая птица. Однако тотчас выяснилось, что это самый обыкновенный человек с черным чемоданом в руках, смуглый, длиннолицый мужчина с острым взглядом; он внимательно и довольно недружелюбно оглядел лондонца с головы до ног.
– Это доктор Барнет, – сказал Вуд, и в голосе его прозвучало облегчение. – Добрый вечер, доктор. Идете в замок? Надеюсь, никто не болен?
– В такой трущобе только больные и могут жить, – пробурчал доктор. – Впрочем, они уже так больны, что не замечают этого. Тут самый воздух зачумлен. Не завидую я этому молодому австралийцу.
– Что за молодой австралиец? – спросил Пейн отрывисто и довольно рассеянно.
– А! – удивился доктор. – Вам ваш друг ничего не рассказывал? Этот юноша прибыл сегодня. Типичная старомодная мелодрама: наследник возвращается из-за моря в свой разрушенный родовой замок, чтобы, согласно древнему семейному договору, жениться на девушке, поджидающей его в башне, заросшей плющом. Да, такие вещи случаются и в наше время! У него даже есть немножко денег, и это единственное светлое пятно во всей истории.
– А что обо всем этом думает сама мисс Дарнуэй? – сухо спросил Вуд.
– То же самое, что она думает всегда и обо всем, – ответил доктор. – В этом логове вообще не думают – только бродят по галереям да грезят. По-моему, она воспринимает семейный договор и жениха из Австралии как часть роковой судьбы рода Дарнуэй. Я уверен, что если бы он оказался горбатым, одноглазым негром с манией человекоубийства, то она бы решила, что это лишь последний художественный штрих, вполне соответствующий сумеречному пейзажу.
– Вы выставляете наших земляков в довольно непривлекательном свете! Что подумает о них мой друг из Лондона! – рассмеялся Вуд. – А я как раз собирался повести его туда. Каждый художник должен воспользоваться случаем и полюбоваться портретами из галереи Дарнуэй. Впрочем, кажется, лучше будет отложить наш визит, раз приехал этот австралиец.
– Пожалуйста, пойдите к ним! – горячо воскликнул доктор. – Все, что хоть сколько-нибудь может осветить их унылую жизнь, облегчит мне труд. Но тут, кажется, нужен целый полк австралийских кузенов, чтобы поднять их настроение. Чем больше посетителей, тем лучше! Идемте, я сам представлю вас.
Они подошли ближе к замку, и Пейн увидел, что он окружен рвом, полным стоячей зеленой воды. Старый мост был перекинут через ров, а по другую сторону моста виднелся довольно широкий каменный двор, весь в трещинах, из которых пробивалась трава и какие-то дикие растения. Этот двор казался в серых сумерках удивительно пустынным. Он упирался в низкие ворота эпохи Тюдоров, широко раскрытые, но темные, как вход в пещеру.
Когда стремительный доктор без всяких предварительных церемоний провел их в ворота, Пейн опять почувствовал, что ему как-то не по себе.
Он думал, что ему придется подниматься в какую-нибудь полуразрушенную башню по узким и крутым винтовым лестницам, а в действительности он сразу же спустился на несколько ступенек вниз. Они шли анфиладой темных покоев, которые напоминали подземные казематы, несмотря на то, что были увешаны темными картинами и уставлены пыльными книжными шкафами. Там и сям тусклая свеча в старинном канделябре выхватывала из мрака какую-нибудь деталь некогда роскошной, а теперь совершенно запущенной обстановки, но случайного посетителя поражали не эти свечи, а мерцание пробивавшегося откуда-то дневного света. Пройдя в конец длинного зала, Пейн увидел источник этого света – низкое овальное окно в стиле семнадцатого столетия. Это окно отличалось одним удивительным свойством: из него было видно не настоящее небо, а только отражение неба – бледная полоска дневного света, отражающаяся в воде рва, под нависшей тенью каменных ступеней. Пейн вспомнил о властительнице замка из средневековой легенды, видевшей внешний мир только в зеркале. «А властительница замка Дарнуэй, – подумал он, – видит мир мало того что в зеркале, но еще и вверх ногами».