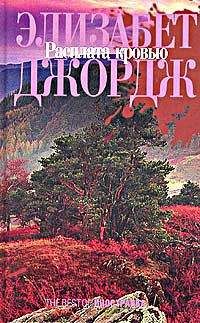– Ринтула упоминали этим вечером. Они были помолвлены?
– Неофициально. Смерть Алека изменила Джой.
– Каким образом?
– Как я могу это объяснить? – ответила она. – Это похоже на пожар, на неистовство. Словно она решила мстить всему миру, когда Алек погиб. Но не для собственного удовольствия. Скорее, чтобы уничтожить себя. И забрать с собой стольких из нас, скольких сможет. Она была больна. Она меняла мужчин, одного за другим, инспектор. Она мучила их. Ненасытно. С ненавистью. Словно никто из них не заставить ее забыть Алека, и она бросала всем и каждому этот вызов.
Линли подошел к кровати и выложил на покрывало содержимое сумочки Джой.
– Это ее? – спросила Айрин, равнодушно разглядывая разложенные предметы.
Сначала он подал ей ежедневник Джой. Айрин, казалось, не хотела брать его – словно боялась, что наткнется в нем на факты, которых ей лучше не знать. Однако она, как смогла, идентифицировала записи: договоренности о встречах с издателем на Аппер-Гровенор-стрит, день рождения дочери Айрин Салли, предельный срок написания трех глав книги, установленный для себя самой Джой.
Линли обратил ее внимание на имя, нацарапанное поперек целой недели. «П. Грин».
– Новый знакомый?
– Питер, Пол? Не знаю, инспектор. Может быть, она собиралась с кем-нибудь на выходные, не могу сказать. Мы не очень часто общались. А когда разговаривали, то в основном о делах. Вероятно, она рассказала бы мне о своем новом мужчине. Но меня нисколько не удивило бы, что она снова кого-то нашла. Это было в ее характере. Правда. – Айрин с несчастным видом перебирала вещицы, потрогала бумажние спички, жевательную резинку, ключи. Больше он ничего не говорила.
Наблюдая за ней, Линли нажал кнопку на маленьком магнитофоне.
Айрин едва заметно съежилась, услышав голос сестры. Он оставил аппарат включенным. Бодрые комментарии, пульсирующее жизнелюбие, планы на будущее. Нет, судя по голосу, она отнюдь не была похожа на женщину, которая настроена кого-нибудь уничтожить. На середине прослушивания Айрин поднесла ладонь к глазам. Наклонила голову.
– Что-нибудь из этого вам о чем-нибудь говорит? – спросил Линли.
Айрин покачала головой, но чересчур уж энергичным движением: вторая явная ложь.
Линли ждал. Казалось, она пытается отгородиться от него, уйти в себя, неимоверным усилием воли зажать все эмоции.
– Таким образом вам все равно не удастся похоронить память о ней, Айрин, – тихо произнес он. – Я знаю, что вы хотите этого. И понимаю почему. Но вы знаете, что, если вы попытаетесь, она будет вечно вас преследовать. – Он увидел, как напряглись прижатые к голове пальцы. Ногти вонзились в кожу. – Вы не обязаны прощать ее за то, что она вам сделала. Но вы рискуете сделать что-то такое, чего не сможете простить самой себе.
– Я не могу вам помочь. – В голосе Айрин слышалось смятение. – Мне не жаль, что моя сестра умерла, как же я могу вам помочь? Я себе-то не в состоянии помочь.
– Вы можете помочь, рассказав мне что-нибудь об этой записи.
И Линли безжалостно прокрутил ее снова, ненавидя себя за то, что было частью его работы… Снова не последовало никакого отклика. Он перемотал пленку, включил ее еще раз. И еще.
Джой словно была здесь, рядом. Она уговаривала. Она смеялась. Она дразнила. И во время пятого прослушивания сестра ее не выдержала на словах: «Ради бога не позволить маме снова забыть о Салли в этом году…»
Айрин схватила магнитофон и, нажимая на все кнопки, заставила его замолчать, потом бросила назад на кровать, словно прикасаться к нему было опасно.
– Моя мать вообще не вспоминала бы о дне рождения моей дочери, если бы Джой не напоминала ей! – воскликнула она. На ее лице отразилась мука, но глаза были сухие. – И все равно я ее ненавидела! Я ненавидела свою сестру каждую минуту и хотела, чтобы она умерла! Но не так! О боже, не так! Вы можете себе представить, каково это, хотеть смерти какого-то человека больше всего на свете, а потом получить это? Словно какой-то божок, выслушав твои желания, решил поглумиться и исполнил самые отвратительные…
Великий боже, как велика власть слов! Он мог представить. Еще как мог. Благодаря такой своевременной смерти в Корнуолле любовника собственной матери, благодаря множеству случайностей, какие Айрин Синклер никогда и не снились…
– Часть из того, что она говорила, похоже, имеет отношение к ее новой работе. Вы знаете место, которое она описывает? Гниющие овощи, кваканье лягушек и звук насосов, плоская местность?
– Нет.
– А о какой метели идет речь?
– Не знаю!
– Мужчину, которого она упоминает. Джона Дэрроу?
Волосы Айрин взметнулись, описав дугу, – это она резко отвернулась. При этом внезапном движении Линли сказал:
– Джон Дэрроу. Вы узнали это имя.
– Вчера вечером за ужином Джой о нем говорила. О том, что пленила какого-то жуткого типа по имени Джон Дэрроу, и об ужине с ним.
– Это тот новый избранник, которым она увлеклась?
– Нет. Нет, не думаю. Кто-то… по-моему, это была леди Стинхерст… спросил ее о ее новой книге. И всплыл Джон Дэрроу. Джой смеялась – она всегда смеется, подтрунивая над проблемами, с которыми ей приходится сталкиваться, когда пишет, ей вроде бы требовались какие-то сведения, и она пыталась их раздобыть. И это имело отношение к Джону Дэрроу. Поэтому мне кажется, что он как-то связан с книгой.
– С книгой? Вы хотите сказать, с еще одной пьесой?
Лицо Айрин затуманилось.
– Пьесой? Нет, вы не так поняли, инспектор. Кроме одной ранней пьесы шестилетней давности и этой, новой, для лорда Стинхерста, моя сестра не писала для театра, она писала книги. Сначала она была журналисткой, но потом занялась документальной прозой. Ее книги о преступлениях. О настоящих преступлениях, а не вымышленных. Главным образом об убийствах. Вы этого не знали?
«Главным образом об убийствах. Настоящих преступлениях». Ну конечно. Линли пристально посмотрел на магнитофончик, боясь поверить, что он с такой легкостью получил недостающую часть в головоломке-треугольнике «мотив-средство-возможность». Но вот оно, то, что он искал, он чуял, что непременно это найдет. Мотив убийства. По-прежнему туманный, но просто ожидающий подробностей, необходимых для связного объяснения. И ниточка тоже была здесь, в этой записи, в самых последних словах Джой: «… спросить Риса, как лучше всего к нему подобраться? Он хорошо ладит с людьми».
Линли начал складывать вещи Джой в сумочку. Настроение было приподнятым, но в то же время он изнемогал от ярости, как только думал о том, что здесь произошло минувшей ночью, и о том, какую цену ему лично придется заплатить, чтобы свершилось правосудие.
У двери, когда Хейверс уже вышла в коридор, его остановили последние слова Айрин Синклер. Она стояла у кровати на фоне строгих неброских обоев в окружении солидной чинной мебели. Удобная комната, которая не предполагает риска, или чьего-то вызова, или экстравагантных требований. Она казалась ловушкой для этой женщины.
– Эти спички, инспектор, – проговорила она. – Джой не курила.
Маргерит Ринтул, графиня Стинхерст, выключила ночник. Не потому, что хотела уснуть. Она очень хорошо знала, что заснуть ей не удастся. Скорее из-за не совсем еще утраченного женского тщеславия. Темнота скрывала узор из морщин, начавших опутывать и мять ее кожу. В ней она чувствовала себя защищенной, она больше не была пухлой матроной, чьи когда то красивые груди свисали почти до талии; над чьими блестящими каштановыми волосами долго хлопотали искуснейшие парикмахеры Найтсбриджа[28], крася их и завивая; чьи наманикюренные руки со слегка пожелтевшими ногтями несли на себе отпечаток возраста, и им некого было больше ласкать.
На ночной столик она положила роман так, чтобы его огненно-красная обложка легла четко по линии изящной латунной инкрустации по красному дереву. Даже в темноте название глумливо пялилось на нее. «Безумная летняя страсть». Какая прямолинейность, сказала она себе. И какая обреченность.
Она посмотрела в другой конец комнаты, где в кресле у окна сидел ее муж, самозабвенно созерцавший слабый свет звезд, который просачивался сквозь облака, смутные очертания сугробов и тени на снегу. Лорд Стинхерст был полностью одет, как и она, только сидела она на кровати, опираясь спиной на изголовье, прикрыв ноги шерстяным одеялом. Ее отделяло от мужа не более десяти футов, и, однако, они были разделены бездной тайн и скрытности шириной в двадцать пять лет. Пора, пора положить этому конец.
Сама мысль об этом заставляла леди Стинхерст холодеть от ужаса. Каждый раз, когда она, набрав побольше воздуха, собиралась наконец заговорить, все ее воспитание, все ее прошлое, принятые в их кругу правила дружно восставали, и сразу снова перехватывало горло. Жизнь не приучила ее даже к попыткам иметь свое мнение.