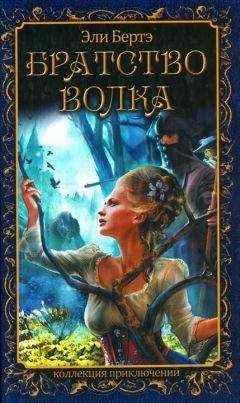– Скажи мне всю правду, Пальмира, любила ты этого… молодого человека?
– Сначала думала, что люблю, – ответила она, закрыв лицо руками, – но позже поняла свою ошибку. Я была легкомысленным и сумасбродным ребенком, который позволил увлечь себя и поступал предосудительно, сам того не сознавая.
– Как приписывать одному ребячеству и легкомыслию поступки, последствия которых могли быть так ужасны? Пальмира, ведь ты получала письма и имела неосторожность отвечать на них!
– Не знаю, отец, читали ли вы записки, которые я получала и которые отдала вам на следующий день после несчастья. Речь в них идет исключительно о поэтических мечтаниях и чувствах, вполне позволительных между братом и сестрой. В моих письма не было ни одного выражения, ни одной мысли, которые заставили бы меня краснеть…
– Да-да, я читал эти туманные послания, однако я убедился, что этот молодой человек насмехался над тобой самым бесстыдным образом.
– Отец!
– Говорю тебе, насмехался, а помогало ему ненавистное создание, игравшее в этом деле роль злого духа. Как бы то ни было, а бумаги эти, невинные или обличительные, могут еще существовать, и их непременно отыщут.
– Я думаю, что этот молодой человек был честен, поэтому уничтожил их.
– Он был хвастуном и мог сохранить их… Это, однако, не все, Пальмира, я едва решаюсь выговорить… меня бросает в краску от одной мысли, что ты несколько раз ходила к нему на свидание…
– Я только два раза встречалась с Бьенасси в нескольких шагах от нашего дома, на большой дороге, и каждое из этих свиданий длилось не более нескольких минут. По моему строгому приказанию Женни Мерье оставалась при мне во время этих непродолжительных разговоров. А Бьенасси ограничивался самыми почтительными словами, в которых выражал пламенное желание получить мою руку.
– Пальмира, – с мрачным и раздраженным видом прервал ее де ла Сутьер, – разве я был слеп или лишился памяти? Разве я не видел, как этот развратник обнял тебя, а ты шутливо вырывалась из его рук?
– Боже мой! Что это вы говорите, отец? – воскликнула Пальмира с непритворным удивлением. – Я вас не понимаю!
– А выражаюсь я, кажется, ясно. Увидев, как слабо ты отклоняешь ласки соблазнителя, я и предался гневу, который помрачил мой рассудок. Я бросился вперед, ослепленный бешенством, и, когда сборщик податей падал, смертельно пораженный, ты убежала с криком ужаса. Не жестоко ли с твоей стороны, Пальмира, вынуждать меня возвращаться к этим тяжким воспоминаниям?
Девушка не могла опомниться.
– Как, отец! – тихо произнесла она наконец. – Вы могли считать меня до такой степени виновной и, невзирая на это, простили? Ах! Теперь я понимаю порыв гнева, которому вы поддались и который в душе, против своей собственной воли, я с горечью ставила вам в укор! Вы были убеждены, что это ваша дочь!.. Боже мой! Это не я была на том роковом свидании! Будь это я, разве нашлось бы у меня достаточно сил для бегства? Я упала бы к вашим ногам, полумертвая от страха и стыда.
– Что ты говоришь, Пальмира? Как! Это не ты была возле брода в тот роковой вечер?
– Это была Женни, ненавистная Женни, которая, как вы справедливо заметили, сыграла в этом деле роль злого духа. Выслушайте меня: я не любила месье Бьенасси, а потому эта маленькая интрига была мне в тягость, несмотря на искусные проделки Женни. И вдруг я получила записку, в которой молодой человек грозил лишить себя жизни, если я не соглашусь на свидание с ним. Я поверила, я считала его способным осуществить свою угрозу, если не уступлю его требованиям. Между тем я не хотела идти на свидание ни за что на свете, к тому же я была немного утомлена после опасности, которой подверглась в тот день. И наконец, если уж сознаваться до конца, – прибавила Пальмира, краснея, – я была глубоко тронута самоотверженностью Армана Робертена и почувствовала к нему… благодарность. В затруднении я обратилась к Женни и попросила ее пойти на свидание, назначенное Теодором Бьенасси, постараться отговорить его от самоубийства, но при этом объявить, что всякое общение, открытое или тайное, между нами впредь должно быть прекращено. Женни заставила себя долго упрашивать, но, уступив наконец моим просьбам и обещаниям, украдкой вышла из дома. Прошло полчаса после ее ухода, и она прибежала назад, бледная и с трудом переводя дыхание. Она рассказала мне, что вы все узнали, что застигли ее врасплох возле брода и что выстрелили в сборщика податей.
Внимательно выслушав рассказ дочери, по-видимому, вполне правдивый, де ла Сутьер, продолжал сомневаться.
– Я хочу тебе верить, Пальмира, – наконец произнес он. – Бог мне свидетель, я ничего так не желаю, как верить тебе! Я очень хорошо видел, что на женщине, которая шла на свидание, была надета твоя шелковая мантилья, та самая, что была на тебе в тот день во время прогулки.
– Да, я вспомнила, что перед уходом Женни действительно попросила разрешения надеть мою мантилью с капюшоном, чтобы закрыть лицо и остаться неузнанной. От радости, что она согласилась выполнить мое поручение, я не стала отказывать ей в столь ничтожной просьбе.
– Ах, мое легковерное и неосторожное дитя! – с волнением в голосе произнес де ла Сутьер. – Я подозреваю коварную цель…
– Отец, вы только сегодня согласились меня выслушать.
– Правда, правда… Поцелуй меня, Пальмира, и прости мне мою вину, как я прощаю твою. Соединим наши силы против общей опасности!
Девушка наклонилась к отцу, и они крепко обнялись. Опасаясь сильно утомить больного, Пальмира вскоре тихо высвободилась из объятий отца и спросила, робко указывая на письмо, которое все еще лежало на столе:
– Вы и теперь требуете, чтобы я его отправила?
– Более чем когда-либо я настаиваю на этом, – ответил де ла Сутьер. – Правосудие должно идти своим чередом, и нам, возможно, будет нечего страшиться. Искусный судья сумеет отличить… Я не хочу, однако, думать об этих важных вопросах. Мысли мои мешаются, голова готова треснуть… Я совсем изнемогаю!
Он снова упал на подушки.
– Вот чего я опасалась! – воскликнула Пальмира, перепуганная донельзя. – Вы еще слишком слабы, чтобы заниматься вопросом, который волнует всех нас. Отдохните, я пошлю за доктором, я…
– Письмо! – прошептал больной. – Не забудь про письмо!
Это было последнее слово, произнесенное им в сознании. Спустя несколько минут он опять метался в жару, а с жаром вернулся и бред. Когда Арман пришел вечером осведомиться о состоянии больного, тот благодаря оказанному вовремя уходу чувствовал себя намного лучше. Пальмира сидела в гостиной с письмом в руке. Увидев посетителя, она поспешно спрятала послание, но Арман, поглощенный ее печальным видом, не обратил на это ничтожное обстоятельство никакого внимания. Внезапно Пальмира залилась слезами и доверчиво сказала Робертену:
– Я не могу больше молчать. Вы должны знать все. Мне не к кому обратиться ни за помощью, ни за советом. Из окружающих меня людей только вы настолько умны, чтобы понять меня и наставить на путь истинный. К тому же вы добры и можете простить мне ошибки и пожалеть меня. Я скажу вам все, что вскоре уже не будет тайной ни для кого. Только об одном умоляю вас, мой добрый друг: что бы вы ни услышали, не презирайте меня и сохраните ко мне дружбу брата.
– Как я могу перестать любить вас, Пальмира? А презирать? Но что вы сделали такого, что испытываете подобный страх?
– Преступление! И хотя я сама его не совершала, я вынудила совершить его дорогого и близкого мне человека.
И она рассказала о своей мнимой любви к Бьенасси, об интригах Женни и трагедии возле брода, об ужасном положении де ла Сутьера, когда в качестве присяжного он вынужден был решать судьбу Франсуа Шеру, и, наконец, сообщила, что первым порывом ее отца, когда он пришел в сознание, было объявить себя единственным виновником убийства.
– А теперь, – продолжала она, – догадайтесь, чьей рукой было написано анонимное письмо к Гортанс Бьенасси? Понимаете ли вы, что в нем заключалось обвинение, которому не поверила честная девушка – настолько оно показалось ей чудовищным? Возможно ли, чтобы особа, написавшая письмо, отправила такое же судебным властям? Что мне делать? Из жалости скажите что-нибудь, посоветуйте, помогите мне! Но я вижу, – с отчаянием вскрикнула бедная девушка, бросаясь на диван, – мои опасения подтвердились: теперь я внушаю вам лишь ужас и презрение!
Робертен слушал рассказ Пальмиры со спокойным видом. Исключая двух односложных вопросов, он не перебивал ее и ничем не выдавал своих эмоций. Но, увидев, что девушка неправильно истолковывает его сдержанность, встал и серьезным тоном сказал ей:
– Умоляю вас ответить откровенно и честно на один-единственный вопрос: любили вы… Бьенасси?
– Нет, не любила, – порывисто ответила Пальмира. – Я долго обдумывала этот вопрос и с полной уверенностью могу утверждать, что я не любила Бьенасси, не любила никогда.