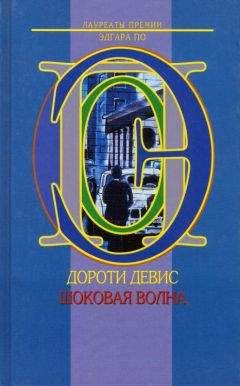Когда он наконец вошел в таверну «Красная лампа», имажинисты были в сборе, сверкая красками и элегантностью, как цветник. Это сравнение понравилось Мазеру. Молодые интеллектуалы проявляли себя искусством правильной речи, изысканностью одежды и манер. Аффектация в жестах, манерах и языке даже развлекала Мазера. Эта элегантность ради элегантности в современном студенческом городке, где сознательно создавался культ неряшливости и неумытости, требовала незаурядной смелости. Таверна со стенами, обшитыми дубом, с приглушенным светом ламп была переполнена туристами, сидевшими за столиками, и завсегдатаями — у стойки бара. Мазер с трудом пробрался к своим юным друзьям. Среди них была всего лишь одна девушка с шалью на плечах и волосами, небрежно собранными в пучок на макушке. Возможно, это был даже нарик. Она показала язык какому-то одобрительно свистнувшему ей типу, направлявшемуся в сторону туалетов. «Суини среди соловьев»,[1] — подумал про себя Мазер.
Молодые люди подвинулись, освобождая побольше места для гостя, и в результате в его распоряжении оказалась целая скамья. Большинство из этих юнцов знало его как Эрика из студгородка, здесь все величали его так. Он часто сиживал с ними, уместившись боком на стуле, подтянув к подбородку согнутую в колене ногу, и слушал их болтовню. Он заслуживал их гостеприимство тем, что мог наизусть читать отрывки из любых поэм, что воодушевляло или порой повергало их в грусть. Сегодня он снова прочтет им «Суини», но не станет долго задерживаться. Он всегда считал Суини персонажем не только скучным, но и грубой деревенщиной.
Открыв глаза, он начал. Разговоры умолкли. Мазера самого напугал выбор строк, который озадачил потом и его юных слушателей. Строки всплыли в памяти непроизвольно, поднявшись из глубин подсознания, и так же были далеки от Суини, как Дарданеллы от Лондона. В сущности он даже не подозревал, что помнит этот отрывок, пока не начал читать.
И в мире скорби и забот
Свобода воинов найдет,
Мильоны дышат лишь мечтою
Ее для мира удержать,
Когда ж ряды ее сомкнутся,
Тогда придет черед дрожать
Тиранам.
Начав, он уже не мог остановиться. Строфа за строфой стремительно вылетали из глубин его памяти. Иногда он спотыкался от натиска слов, вкладывая в них больше значения и красок, чем дано им в поэме. Галстук мешал ему, и он сорвал его, расстегнул сорочку и свободно откинул на плечи воротник.
Молодежь, как зачарованная, не спускала с него глаз, в которых было полно живого удивления. Элиот? Ну, конечно же, нет. Кто-то с трудом удерживался от смеха, другие прилежно слушали, ибо это расширяло их познания в ура-патриотизме, который их гость противопоставил сардонической насмешке Элиота.
Мазер внезапно умолк.
Девушка хихикнула:
— Я знаю, — сказала она, манерно растягивая слова. — Это Байрон.
— Как вы узнали? — насмешливо спросил Мазер.
Девица указала мановением руки на его открытый ворот. Романтический поэт, чьи строки могли быть забыты, остался, однако, в памяти благодаря своей манере одеваться.
— Свидетельство прекрасной дамы, — с прежней насмешливостью произнес Мазер. — Поэт, открывший шею дамским коготкам, не подлежит забвению.
Он подтянул свои длинные ноги и встал. — Простите за то, что прервал вашу беседу, джентльмены. Живи, Суини! Сегодня вечером умер Агамемнон.[2]
Он быстро покинул таверну, пробираясь через толпу входящей в нее публики, не заметив даже прощально поднятой руки бармена. Его охватило странное нетерпение, жгучее желание сделать что-то из ряда вон выходящее, на удивление всем. Он жаждал внимания. Агамемнон умер сегодня! Была ли смерть его достойной? Потом Мазер блуждал по барам и кофейным и, как фокусник, с неистовой неудержимостью веселил знакомых завсегдатаев.
Когда зазвонил телефон, Джанет была в темной комнате, — в ней прежде, должно быть, жила прислуга. Выйдя в кухню, она дала глазам несколько секунд привыкнуть к свету, а затем взяла трубку. Первой же мыслью было, что звонок связан с Питером. Что-то, должно быть, касающееся фильма, о чем Питер и его коллеги ранее не вспомнили.
Для Джанет фотография — это познание человека и вещей. Иногда она занималась невещественными эффектами, устроила даже небольшую выставку, но для Питера с его физикой высоких энергий фильм означал запись всевозможных математических указателей атомного эксперимента.
Но звонил Боб Стейнберг.
— Джанет? Где, черт побери, Питер? Мы ждем его уже целый час, а у меня завтра лекция в восемь утра.
— Он ушел сразу же за вами, — ответила Джанет. — Я тоже жду его домой. — До университета было двадцать минут ходьбы пешком.
— Он не говорил, что куда-нибудь зайдет по дороге?
— Нет, к тому же он устал, Боб. Он хотел поскорее вернуться.
— Хм, — хмыкнул Стейнберг и, вспомнив многие нелогичные поступки и действия Питера, добавил: — Когда он устает, он первым делом совершает прогулки. Не беспокойся, Джанет. У него есть о чем поразмышлять в эти последние дни.
— Если он не появится в ближайшее время…
— Да, да, я тут же тебе сообщу, — прервал ее Стейнберг. — Если он не появится, мы разойдемся, и тогда я тоже тебе позвоню.
— Спасибо, Боб. — Джанет, вешая трубку, посмотрела на часы. Было без двадцати одиннадцать. Питер ушел самое позднее в девять пятнадцать. Он не был особенно пунктуальным человеком, но никогда не забывал о чужом времени. Он мог задержаться, например, в церкви Святого Джона, если она бывала открыта. Он часто это делал и не потому, что был верующим. Просто ему нравилось туда заходить. Не мог же он вдруг там заснуть? А что если его заперли в церкви? Джанет, представив себе такое, даже рассмеялась и вдруг уловила в собственном смехе истеричные нотки.
Она вернулась в темную комнату и собрала все негативы, которые собиралась проявить, когда ей помешал телефонный звонок. Осталось только ждать. Питер рассердится, если она начнет обзванивать знакомых. Да и куда звонить? В доме священника будут явно недовольны, если она позвонит им. В лаборатории телефона не было. Ей, пожалуй, пора бы ко всему привыкнуть за эти восемь лет. Джанет стала вспоминать, по каким случаям Питер наказывал ей не беспокоиться: когда он оставался на час или полтора в ванной, когда не выходил вовремя к столу или не ложился спать. Иногда он задерживался до рассвета в лаборатории, а потом шел пешком до Манхэттена, где покупал свежую рыбу и приносил домой к завтраку.
В конце концов Джанет не на шутку разволновалась. Это заставило ее совсем забыть об Эрике Мазере. Она презирала себя за то, что он так часто занимает ее мысли.
Стейнберг, покинув кабину уличного телефона, остановился у газетного киоска на углу. Продавец раскладывал только что доставленный номер «Таймс». У него был единственный киоск в этом районе, где продавались «Таймс» и «Ньюс», и он этим очень гордился.
— Вы видели сегодня вечером доктора Бредли, Хэнк? — спросил его Стейнберг.
— Да, — сказал тот, но потом, почесав голову, поправился: — Я видел мисс Руссо, совсем недавно.
Какая странная ситуация, подумал Стейнберг. Он вспомнил, что Анна решила зайти домой, потому что забыла очки, и пришла в лабораторию позже всех. Ему очень не нравилось, что она эти два квартала от киоска до лаборатории проходит пешком одна. Сам он предпочитает этого не делать. Вскоре будет построено новое здание лаборатории, а пока она ютилась в помещении складов вблизи самых опасных в городе трущоб. Редко кто из домовладельцев, сдавая помещение, хотел иметь в нем циклотрон, даже самый маленький.
Патрульная машина № 37, совершающая дежурный объезд в районе Хьюстон-стрит, выехала на Десятую Восточную улицу. За рулем был офицер полиции Том Рид. Его напарник Уолли Херринг, черный, сидел рядом. Они давно забыли о цвете собственной кожи, но о том, что в их районе полная мешанина цветов и наречий они всегда помнили. В этой части Десятой улицы жили верхние классы общества, это был конгломерат старых семейных особняков, лет десять назад превращенных в доходные дома со сдачей квартир в аренду. Многие из домов обветшали, утратили былые прелесть и достоинство, постепенно превращаясь в трущобы. Сеть мелких магазинчиков здесь была предметом постоянного надзора Херринга, опасавшегося частых взломов и краж. В основном это были антикварные лавки, мастерские сапожников и мастеров набивать чучела, лавочки, торгующие испанскими деликатесами, и небольшие картинные галереи.
Дежурство Херринга и Рида кончалось в полночь. Для них это была спокойная ночь, да и погода не подвела. Хорошая погода, тихие соседи.
Херринг заметил фигуру человека, лежавшего между мусорными баками у входа в арку, рядом с подъездом дома № 853. Женщина, выгуливавшая разжиревшего спаниеля, пыталась оттащить его от подозрительной находки. Рид остановил машину у тротуара. Херринг вышел с зажженным фонариком в руке. Женщина, мешая ему пройти дальше, тут же набросилась на полицейского с претензиями.