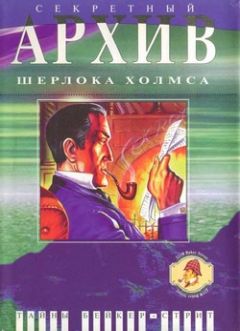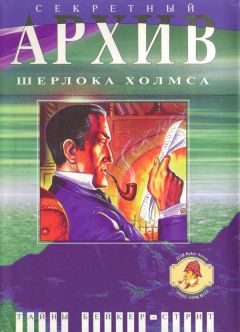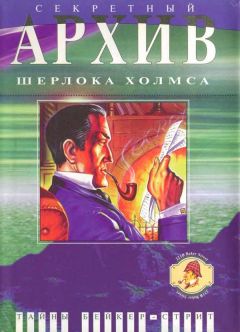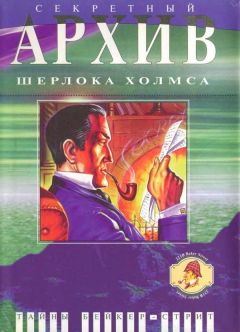Ириса улыбнулась, и ее улыбка была ужасной.
— Я верю в зло. Я верю, что нигде на земле человек не защищен от зла, включая вашу сверхцивилизованную Англию. Думаете, только носферату охотятся за невинными? Сказать вам, почему эта женщина все еще жива, когда ее маленькие сестры покоятся рядом в могиле? Потому что их отец, этот подвижник науки, перекачивал в нее кровь своих младших дочерей!
Палец в черной перчатке устремился, словно копье, в направлении закрытой двери лаборатории.
— Он и она высасывали кровь у несчастных малюток, пока в их жилах ничего не осталось. Слишком поздно я поняла, что означают эти дьявольские письмена на стене, эти железные койки боли и страданий! Слишком поздно в нем пробудилась совесть! О, мои маленькие племянницы, мои бедные Алиса и Элиза…
На какой-то момент горе стерло гримасу ненависти с ее лица, но то, что скрывалось под ней, оказалось еще страшнее. Усилием воли Ириса взяла себя в руки.
— Уходите! — с холодным презрением повторила она. — Вы слабый и глупый человек. Однажды вы по доброй воле обняли эту развратницу, и теперь она вдохнула смерть вам в рот. Я знаю это! Уходите! Скоро вы соединитесь с ней в могиле. Слышите? Она уже зовет вас!
И они услышали. Из спальни донеслись глухие удары и царапанье. Снова кулаки стучали, а ногти царапали по крышке гроба.
Задыхаясь от ужаса, отец схватил мальчика и бросился бежать. Позади слышался жуткий смех Ирисы.
Больше никто никогда не видел Бланш.
Но боль утихает, и годы идут,
Легендою сделав былую беду.
Лишь старец согбенный льет слезы рекой
Не в силах забыть о жене молодой.
О, ветка омелы!..
Эхо голоса Холмса замерло в комнате. Буря бормотала вдалеке, а за окнами дома меланхолически накрапывал дождь.
— Весьма любопытно, — заговорил Холмс, возвращаясь к своей обычной, суховатой манере, — что эта баллада основана на трагедии, которая произошла в одном семействе из Ратленда по фамилии Ноэль. Нам никак не удается избавиться от рождественской темы, верно?[57] Бланш умерла, но мой отец не стал ее оплакивать. Он умер спустя четыре месяца, харкая кровью, и я едва не последовал за ним. Лежа больным, я подслушал, что Ириса тоже умерла — уморила себя голодом. Однако некоторые проклятия бывают очень упорными. Даже теперь я слышу во сне удары кулаков и царапанье ногтей о крышку гроба.
Я молча уставился на него, потом задал первый вопрос, пришедший мне в голову:
— А как насчет двух девочек? Холмс провел худой рукой по лицу.
— Как я мог об этом забыть? Разумеется, они давно мертвы. Я видел их надгробья среди деревьев, когда мы проезжали мимо.
Это было уже чересчур для меня.
— Они, полагаю, и есть те «один-два призрака», которых вы пообещали мне, прежде чем мы вошли в этот зачумленный дом, не говоря уже о валахской сумасшедшей, злодее-ученом и вампире в сундуке с бельем? Отлично проделано, Холмс! Браво! И вы еще называете меня романтиком!
Внезапно Холмс весь напрягся и поднял руку, призывая меня умолкнуть. По привычке я сразу повиновался.
Мы прислушались. Сквозь капанье дождя, шелест ветра и скрипы старого дома сверху донеслись глухие удары и слабый скрежет.
— Ну, знаете! — возмутился я.
Выхватив у Холмса свечу, я быстро направился через холл к дальней двери. Там была лестница, по ступенькам которой стекала вода. Я начал подниматься, крепко держась за перила, так как сгнившие остатки ковра делали ступеньки скользкими, словно мох на речном берегу.
Я не хотел верить тому, что рассказал мне мой друг, но меня испугало то, что он описывал подробности не так, как если бы придумывал их, а словно извлекая из полузабытых ночных кошмаров детства, как извлекают осколки из запущенной раны. Неужели это правда? Нет, я не могу поверить в такое!
Но я должен был убедиться.
Верхний коридор был точно таким, каким его описал Холмс, — чудовищно длинным, с дверями по обеим сторонам. На верхней площадке я задержался, внезапно почувствовав неуверенность. В конце концов я стоял с оплывшей свечой на верхнем этаже заброшенного дома, в нескольких милях от цивилизованных мест, темной и бурной ночью, охотясь за призраками. Не исключено, что в Мортхилле скрывается убийца, вооруженный топором, — впрочем, в данный момент я почти предпочитал такой вариант.
Первая дверь с левой стороны была приоткрыта. Изнутри донесся шорох, напоминающий шелест бумаги.
Чья-то рука стиснула мое плечо.
— Не входите туда, — прошептал Холмс. Удивленный, что он так быстро поднялся следом за мной, я отозвался таким же шепотом:
— Почему?
— Потому что там есть вход, но может не быть выхода. А кроме того, — не слишком уверенно добавил он, — пол может оказаться ненадежным.
— Самое время подумать об этом! Ладно, если не в эту дверь, то в которую?
Холмс не ответил, но его выдал взгляд, непроизвольно скользнувший к первой двери справа. Так как он не делал попыток открыть ее, я нажал на ручку, но она тут же отломилась, оставшись у меня в руке.
Остался только один способ проникнуть внутрь.
Я изо всех сил толкнул плечом покоробленную панель. Замок сломался, выбросив облако пыли, и дверь открылась, скрипнув петлями. Опасаясь ловушки, я протянул руки вперед, нащупал стул и прижал им распахнутую дверь. Холмс шагнул в темноту, и я последовал за ним.
Колеблющееся пламя свечи бросало отсвет на кровать с давно упавшим на нее балдахином, разбросанные на полу обрывки некогда элегантной одежды, пару длинных рваных перчаток, висевших на спинке стула, словно содранные куски кожи. На туалетном столике также царил беспорядок — он был захламлен пузырьками, лосьонами, булавками и другими безделушками.
На ближайшей стене висела литография Карла Верне, изображающая разодетую в пух и прах красавицу восемнадцатого столетия за туалетным столиком, любующуюся своим отражением в большом зеркале.
— Картина называется «Тщеславие», — сказал Холмс, стоя позади меня, — хотя Бланш вряд ли понимала почему. У нее было сугубо подражательное мышление — как у обезьяны — а подлинное воображение отсутствовало.
Я снова вгляделся в литографию и отпрянул. Круглое зеркало выглядело как череп, голова женщины и ее отражение казались его пустыми глазницами, а пузырьки с косметикой — зубами, обнаженными в загадочной улыбке. Эта картина, а не «Мона Лиза» служила оригиналом портрета Бланш в нижнем холле.
«Sаngsuе» — кровосос, — в ужасе нацарапал ее умирающий отец поверх назидательных изречений. — «Nоn, non, non…»
Я повернулся к Холмсу, когда тот отбросил упавший балдахин. У подножия кровати стоял сундук, крышка которого была похожа на детский гробик. На ней, почерневшей от времени, была грубо вырезана ветка омелы. В трещине застряло несколько прядей светлых волос.
Поколебавшись, Холмс взялся за крышку и с усилием попытался открыть ее. Она приподнялась на четверть дюйма и застряла. Потом он заметил ключ, все еще торчащий в замке. Некоторое время мы стояли молча: Холмс смотрел на ключ, а я — на него. В комнате стало тихо, а снаружи слышалось лишь редкое капанье воды. Внезапный царапающий звук заставил меня вздрогнуть. Он донесся со стороны окна. Засохшая ветка дуба царапала и глухо стучала по стеклу. Холмс вздохнул.
— Вот вам и призраки, — пробормотал он, затем повернулся и вышел из комнаты.
Добрые десять секунд я простоял с открытым ртом, глядя на освещенный мертвенным лунным сиянием сундук с торчащим в нем ключом. Сквозь разбитое окно дохнул ветерок, и светлые пряди шевельнулись…
Я побежал по скользкой лестнице следом за моим другом, рискуя сломать себе шею и поселить в доме еще один призрак.
Вышедшая из-за туч луна наполнила обеденный зал колеблющимся серебристым светом. Я задержался в дверях, окидывая взглядом стены, ища не «улыбку Моны Лизы» или мрачное лицо на «иконе», а две белые фигурки в углу, навеки оставшиеся рядом друг с другом. Но их там не было. Я посмотрел в окно и внезапно увидел снаружи двух мертвых детей, чьи белые платья поблескивали среди посеребренных луной берез. Их светлые немигающие глаза были устремлены вверх, словно они наблюдали за окном спальни на втором этаже.
Холодная капля упала мне на голову. Я вздрогнул и посмотрел наверх. Надо мной висела ветка омелы — этого отвратительного паразита, на каждом отростке которой блестели капли, похожие на ядовитые ягоды.
Снова посмотрев в окно, я проклял свое легковерие. Там были не дети, а два маленьких белых надгробия, склонившихся друг к другу.
Мы поспели в Бэгшот к последнему лондонскому поезду. Холмс проспал всю дорогу.
Больше мы ни разу не говорили об этом вечере.
Было ли это приключение всего лишь грубой шуткой — попыткой Холмса излечить меня от чрезмерного романтизма? Мне хотелось бы так думать, но я не в силах забыть о происшедшем. Оно преследует меня. В моих снах я брожу по бесконечным пыльным комнатам, иногда слыша отдаленные звуки и смех. Прошлой ночью я слышал сдавленные крики и скрежет ногтей, вгрызающихся в дерево, твердое, как железо…