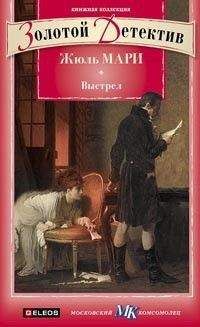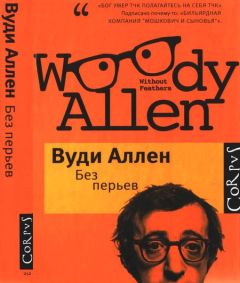При этих словах Морис заерзал на стуле, а мисс Уольден вздрогнула и склонила голову, спрятав лицо. Среди слушателей пронесся легкий неодобрительный ропот. Лорд Чарнворт перешел границы хорошего тона.
— Я упомянул об этом, — продолжал самозванец, — потому, что этого требуют обстоятельства. Телеграмма, о которой я говорю, естественно, была короткой. Никаких подробностей относительно сирот она не содержала, и возникало впечатление, что сироты без дяди совершенно беспомощны.
«Я еще ничего не ответил на эту телеграмму», — сказал Чарльз Уольден. «Что же ты хочешь написать?» — спросил негодяй с плохо скрываемым беспокойством. «Чего я хочу? — ответил с яростью богач. — Ровно ничего! Пусть эти нищие племянники убираются к черту, вот и все! Моя семья выкинула меня из дому, загнала в эту помойную яму на целых двадцать лет, чтобы я превратился из человека в животное! И теперь, когда я вопреки их ожиданиям получаю свои права по закону, они ждут, что я превращусь в филантропа и буду разыгрывать из себя сиделку для их щенят! Ни за что на свете!» — «Чем же дети виноваты? — попробовал усовестить друга негодяй. — Что они тебе сделали? По всей вероятности, они никогда даже не слышали о тебе».
Я не хочу сказать, что негодяем руководило сострадание к двум детям, о самом существовании которых он услышал впервые. Мне думается, что негодяй просто был менее озверевшим, чем Чарльз Уольден: во-первых, он был в Китае на десять лет меньше, а во-вторых, он лично не был настроен против семейства Уольденов настолько, чтобы ей мстить. Нет, это было совсем иное. Племянники так же зависели от Уольдена, как и негодяй, поэтому он должен был заступиться за них, чтобы самому остаться при Уольдене.
Богач нахмурился и, сверкая глазами, стал шагать взад-вперед по грязной лачуге. «Нет, я уверен, что они даже не слышали обо мне, — заговорил он. — Я не сомневаюсь, что из их умов стерли всякое представление о злом дяде, опозорившем всю семью. Тем хуже для них. Воображаю себе их удивление, когда они вдруг проснутся и увидят, что они оказались в руках своего несчастного дяди, отравленного опиумом, дикаря из китайского портового квартала. Их отец умер, а ведь никто из них не догадался уведомить меня об этом! Я помню своего брата Говарда, этого бледного подлеца, который, вероятно, молился за мою душу после той истории. Он и пальцем не пошевельнул, чтобы тогда заступиться за меня. Он считал недостойным себя написать мне сюда хотя бы одну строчку и осведомиться о том, как я живу. И теперь ты требуешь, чтобы я позаботился о его детях! Да за кого ты меня принимаешь? Ну, что же еще? Сегодня я отсюда съезжаю!» — «А как же я?» — спросил негодяй. «Ты?»
Уольден резко остановился и посмотрел на лежавшего у его ног человека с таким видом, точно этот вопрос удивил его. «Я полагаю, что теперь ты свободен и можешь идти на все четыре стороны, — сказал он. — Больше я тебя не держу. Ты видишь, я уезжаю? Оставайся в этой лачуге, она моя, но продавать ее не стоит: за нее не дадут ничего. Пожалуй, я дам тебе рекомендацию к кому-нибудь в Европейском квартале: может быть, ты где-нибудь пристроишься получше. Я постараюсь, хоть и не считаю, что лорду Чарнворту пристало вмешиваться в такие дела». — «А ты не поделишься со мной, Уольден, своим богатством?» — спросил негодяй.
Отчаяние овладело им настолько, что его зубы стучали, как в лихорадке. «Я не понимаю тебя… — пробормотал лорд угрюмо. — Если бы ты нуждался в деньгах, ты подобрал бы с пола то, что я тебе бросил. Не думаешь ли ты, что я возьму тебя с собой в Европу? Я не желаю иметь никаких воспоминаний об этих местах».
Он вдруг зашатался, речь его стала прерывистой. Лицо выражало испуг. «Я все сделаю для тебя, что смогу… — залепетал он. — Я теперь богат. Разве ты не видишь? Если, например, долларов двадцать… или даже сто…»
Его голос перешел вдруг на визжащие ноты: «У меня теперь… двадцать тысяч годового дохода… Боже мой!.. Господи… Что со мной?»
Казалось, что кто-то невидимый схватил его за левую половину тела и выжал ее как губку! И он, точно чурбан, повалился на пол. Как только Уольден упал, негодяй спрыгнул с постели и подбежал к нему. Он поднял разбитого параличом Уольдена с пола и осторожно положил его на гнилую солому, которая столько времени служила ему постелью. Затем сел возле него и стал прислушиваться к его дыханию. Он решил, что Чарльз Уольден уже не оправится от удара и умрет. Но если паралитик умрет, то что станет с ним самим? И пока негодяй сидел у постели человека, которого считал умиравшим, он подумал, что теперь уже ничто не помешает ему воспользоваться именем умершего и занять его место.
Правда, он был не похож на Чарльза Уольдена, за исключением роста, но одно важное обстоятельство складывалось в его пользу. За эти двадцать лет никто в Англии ни разу не видел Чарльза Уольдена. К тому же его старые знакомые вряд ли захотели бы возобновить отношения с человеком такой репутации, какой пользовался у них Уольден. Кроме того, поверенный послал ему телеграмму. Через час Уольден ответил, что собирается выезжать на родину. Поверенный, да и все остальные, ожидали встретить именно того человека, который послал ответную телеграмму. Поэтому никто из них не мог усомниться, что с трапа парохода сойдет именно тот, кого они ожидают.
Несколько труднее было решить вопрос о внешнем сходстве… Во-первых, волосы. Но их легко скрыть с помощью парика, а еще лучше оставить свои собственные седые волосы. Никто не станет удивляться при виде дряхлого изгнанника, возвращающегося седым из двадцатилетней ссылки. То же самое относительно бороды и усов. Носил ли их Уольден в Англии? Без сомнения, Уольден покидал Англию начисто выбритым, как и все молодые люди его возраста. А возвратиться он мог и с бородой. Да, сотни шансов были в пользу негодяя. В ответ на телеграмму доверенного он мог явиться вместо Уольдена сам, и никто, ни поверенный, ни кто-либо другой, не имели бы ни малейшего повода отнестись к нему с подозрением.
Как было противиться такому искушению? В душе негодяя происходила борьба: с одной стороны — возможность выбраться из этого ужасного болота, в которое он все глубже погружался в течение целых девяти лет, и свобода, богатство и почести, ожидавшие его впереди, а с другой — преступление, страшное, тяжко наказуемое преступление. Это была ужасная борьба, но я не могу сказать вам, чем бы она закончилась, если бы не неожиданное обстоятельство.
Борьба в негодяе продолжалась и на следующий день. К вечеру он вспомнил о телеграмме, которую так презрительно сунул ему в руку возвратившийся из банка Уольден. Она по-прежнему оставалась без ответа. Негодяй посмотрел на паралитика. Уольден лежал в бессознательном состоянии, очевидно, находясь между жизнью и смертью. Тогда негодяй решил сам послать ответную телеграмму. Он написал, чтобы сироты оставались в прежнем положении.
Он стащил с лежавшего в бессознательном состоянии человека единственный его сюртук, который, правда, служил ему и раньше, и отправился в европейский квартал. В боковом кармане сюртука он нашел толстую пачку ассигнаций: Уольден взял из банка все деньги, которые были переведены на его имя поверенным. Негодяй заплатил за телеграмму и подписал ее так: «Лорд Чарнворт». И вдруг у него мелькнула мысль: «Подпись Уольдена известна — он каждый месяц выдавал расписку в получении своего жалованья в течение двадцати лет, и все эти расписки, несомненно, хранятся у поверенного в Англии. И если я выдам себя за лорда Чарнворта, то как быть с подписью?» Но тут же пришло и решение этого вопроса: лорда Чарнворта разбил паралич — притворится разбитым и он. Но у лорда парализована левая сторона, отчего же ему, негодяю, не воспользоваться этим? Кто станет утверждать, что подпись левой рукой должна походить на подпись правой?
И негодяй чуть ли не бегом пустился на почту и отправил вторую телеграмму, извещавшую о параличе. Когда он вернулся в лачугу, то, к своему удивлению, увидел Уольдена сидящим и выглядевшим так, точно он выздоравливал. Таким образом, Чарльз Уольден не умер от постигшего его удара. Вскоре он выздоровел совсем. И негодяй убил его.
Я не стану утомлять вас дальнейшими подробностями и приводить какие-либо доводы в свое оправдание. Я был этим негодяем, и я убил Чарльза Уольдена!
Последние слова как громом поразили слушателей. Карслек Пераун выступил вперед, точно для того, чтобы загородить собой рыдавшую девушку от человека, правду о котором она узнала только сейчас. Но нашелся и другой, который еще быстрее, чем Пераун, выступил вперед. Это был сэр Патрик Дэнс.
— Пока этот человек — мой гость, — воскликнул он, — никто не посмеет и пальцем до него дотронуться!
Воспитатель в смущении отступил назад. Жоржиана навсегда запомнила эту сцену. Она послужила ей пробным камнем для испытания настоящего металла. Если прежде весы ее сердца колебались между умом одного и добротой другого, то после этого случая она уже не сомневалась. Помимо прочего, она стала свидетельницей того, что женщины ценят выше доброты и ума, — физической силы и великодушия. Но преступник не забыл о Перауне.