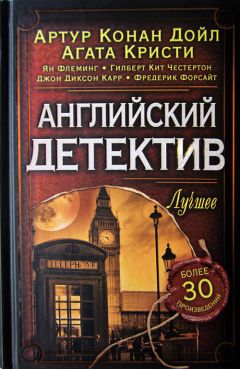Вчера из центрального корта во время решения одного из спорных вопросов за нарушение порядка был выдворен мужчина средних лет.
Из прессыВ детстве летними вечерами я любил сидеть с мамой на веранде нашего бунгало и смотреть на фламинго, скользящих над теннисным кортом, чтобы устроиться на ночлег на далеком озере.
Это было мое любимое время суток, а веранда — мое любимое место. Из мебели в ней были только низкий столик, несколько стоящих в разных углах плетеных кресел и старое английское фермерское кресло-качалка с широким сиденьем, продавленным и отполированным за долгие годы употребления.
Это было отцовское кресло. В конце дня он усаживался на него, удовлетворенно вздыхая, откидывался на спинку, вытягивал длинные ноги и непременно произносил:
— Это кресло, Колли, принадлежало еще твоему деду. Я тебе когда-нибудь говорил об этом?
— Да, отец.
— Да? Что ж, тогда я, наверное, рассказывал тебе и то, что мой отец говорил мне, когда сидел в этом кресле.
— «Жизнь — это игра, и играть нужно по правилам. А обман — самое страшное преступление в мире», — скороговоркой отвечал я.
— Молодец, малыш, — восклицал он, смеясь и бросая взгляд на маму, которая своей милой улыбкой заставляла улыбаться и меня.
Я всегда улыбался, когда видел ее улыбку. Тогда она казалась мне божественно красивой, и уж точно была самой красивой из тех единственных трех белых женщин, которые жили в пределах ближайших пяти сотен миль. Думаю, не только я считал ее такой. Бофф Гортон, молодой окружной офицер, бывало, говорил ей это открыто после третьего джина с тоником, и тогда она улыбалась, а отец смеялся. Бофф приходил довольно часто, якобы для того чтобы проверить, все ли у нас тихо (в то время уже произошли первые беспорядки), и сыграть пару сетов на нашем травяном теннисном корте. Я тогда был еще слишком мал, чтобы задумываться над тем, насколько серьезным было его восхищение мамой. Однажды, когда он в очередной раз пришел к нам в гости, отец задержался в буше, а я ночью встал попить воды и услышал яростный скрип качающегося кресла на веранде. Когда я пришел туда узнать, что происходит, я увидел маму, отдыхающую в кресле-качалке, и сидящего на полу Боффа, раскрасневшегося и запыхавшегося. Интересно, что Бофф удивил меня меньше, чем мама: тогда впервые в жизни я увидел, чтобы она занимала папино кресло.
Отец относился к Боффу скорее как заботливый старший брат. И только на теннисном корте между ними могли накаляться страсти, да и те были вызваны духом соперничества, а не ревностью. Как бы то ни было, их поединки неизменно превращались в яростное противостояние, в котором молодость Боффа и опыт отца настолько уравновешивали друг друга, что предсказать, кто из них победит, было невозможно.
У нас был чудесный корт. На то, чтобы довести эту прямоугольную английскую лужайку до ее нынешнего идеального состояния, было потрачено десять лет. Со всех сторон корт был окружен проволочной сеткой, нужной скорее для того, чтобы не пропустить на площадку диких животных извне, чем удержать внутри мячики. Люди попадали туда через небольшую, плотно пригнанную калитку, которая на ночь закрывалась на тяжелую цепь и большой висячий замок.
Отец и Бофф сыграли на нем в последний раз одним весенним днем, таким же теплым и роскошным, как лучшие английские летние вечера. Мамы тогда не было, она уехала принимать роды у нашей ближайшей соседки, которая безрассудно отложила отъезд. Как ни странно, отсутствие мамы как будто распалило двух мужчин сильнее, чем ее присутствие, и приглашение отца сыграть в тени прозвучало как вызов на дуэль.
Бофф, пытаясь развеять набегающие тучи, сказал мне:
— Колли, старина, не хочешь подавать мячики, пока мы будем играть?
— Да, Колли, — подхватил отец. — Давай с нами. Можешь заодно быть судьей. Будешь следить, чтобы все было по правилам.
— Судьей? — воскликнул, наливаясь краской, Бофф. — Нам нужен судья? Я имею в виду, никто ведь никого не собирается обманывать, верно?
— Жизнь — это игра, и играть нужно по правилам. А обман — самое страшное преступление в мире, — выпалил я.
— Как ты прав, Колли, — произнес отец, мрачно посматривая на Боффа. — Будешь судьей.
Больше они не спорили, но даже в том, как они разминались перед игрой, я почувствовал злость, которая взволновала и обеспокоила меня. А когда началась игра, это был такой яростный поединок, что никто из нас не заметил, как вокруг корта собрались зрители. Обычно только слуга наблюдал за игрой с почтительного расстояния в ожидании, когда его позовут принести освежающие напитки, хотя иногда мы замечали торчащую из кустов голову удивленного аборигена из странствующих племен. Но на этот раз все было иначе. Неожиданно я увидел, что корт окружен со всех сторон. Там было, наверное, двести человек. Все они стояли молча, но по их лицам без труда можно было прочитать их намерения, и в руках они держали копья и мачете.
— Отец! — задохнувшись, вскричал я.
Оба мужчины посмотрели в мою сторону, а потом увидели то, что видел я. На какой-то миг все замерло, а потом с жуткими воплями аборигены ринулись на нас. Бофф бросился к калитке, и на мгновение мне показалось, что он решил драться, несмотря на то что это было равносильно самоубийству, но окружных офицеров, как видно, учат другому. Он схватил цепь, намотал ее на стойку и защелкнул на ней замок.
Враги остались снаружи, но в то же время мы, разумеется, оказались заперты внутри.
Если бы у них были ружья, не имело бы никакого значения, где мы находимся, внутри или снаружи. К счастью, огнестрельного оружия у них не было, а сетка оказалась слишком мелкой для широких наконечников их копий. И все равно они вскоре прорубили бы проход в сетке, если бы Бофф второй раз не продемонстрировал качество своей подготовки. Отец, охваченный возбуждением перед поединком, вышел из дома без оружия, но у Боффа был с собой револьвер, и, как только наши противники принялись рубить металлическую сетку, он аккуратно прицелился и пустил пулю между глаз самому рьяному из них.
Они в панике отпрянули, но лишь на секунду. Поняв, что Бофф больше не стреляет, они вернулись к ограждению, но теперь никто из них не хотел первым поднимать мачете.
— У меня осталось пять пуль, — негромко произнес Бофф. — Они знают, что первый, кто пойдет вперед, умрет, и это единственное, что их сдерживает. Но в конце концов нас это не спасет.
— Можно попробовать перебежать в дом, — предложил отец. — Тут всего-то пятьдесят ярдов. А когда мы доберемся до ружей…
— Боже правый! — воскликнул Бофф. — Вы что, не понимаете? Как только мы высунем нос за ограду, нам конец. И прошу вас, не говорите о ружьях. Если кто-то из них услышит…
Внезапно со стороны бунгало раздался громкий крик, и я подумал, что кто-то нас действительно услышал. Но клубы дыма и языки пламени красноречиво показали, что произошло на самом деле. Это было одновременно и хорошо, и плохо. Плохо — потому что горел мой дом, хорошо — потому что поджог уничтожит оружие, которым они иначе могли бы воспользоваться, и даже, возможно, привлечет внимание к нашему положению.
Отец, очевидно, недовольный тем, что Бофф стал решать, что нам делать, вдруг взял ракетку.
— Мы можем чем-то заняться, пока не пришла помощь, — сказал он. — Моя подача, кажется.
Возможно, игра началась как некий жест отчаяния, но очень быстро она превратилась в суровое противостояние, и страсти, прерванные нападением, закипели с новой силой. Вначале я стоял у натянутой сетки, сжимая в руке револьвер, и наблюдал за врагами, столпившимися вокруг корта, но потом игроки стали так часто интересоваться моим судейским мнением, что мне пришлось все свое внимание обратить на игру.
Однако самым удивительным во всем этом было поведение мятежников. Сперва они какое-то время решали, как нас вытащить из-за ограды. Затем все замолчали, кроме одного, как мне показалось, слуги-перебежчика, который с важным видом стал объяснять и комментировать игру своим собратьям, но потом и его голос стих, и под конец первого сета я понял, что они так же увлеклись состязанием, как сами игроки. Это было поразительное зрелище, словно я наблюдал за очень загорелой толпой болельщиков в Уимблдоне. Головы, следуя за полетом мячика, поворачивались из стороны в сторону, а когда они видели особенно сильный или сложный удар, били концами копий о землю и издавали одобрительные гудящие звуки.
Отец выиграл первый сет со счетом семь — пять и, похоже, собирался повторить во втором сете, но при счете один — четыре начала сказываться молодость Боффа, и отец неожиданно оказался в роли обороняющегося. Когда счет сравнялся, четыре — четыре, он как будто сдался окончательно, но я догадался, что он просто смирился с неизбежным и теперь берег силы перед решающей игрой.