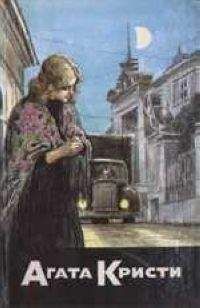Миссис Фарадей не пошла их провожать до выхода, предоставив это Перкинсу, в ожидании полицейских околачивавшемуся на веранде. У двери Дэлглиш повернулся к нему и спросил:
— Извините, не могли бы вы нам сообщить, во сколько миссис Фарадей вернулась вчера домой?
— В шесть двадцать две, коммандер. Я случайно глянул на часы.
Перкинс стоял, широко раскрыв дверь. Это больше смахивало не на предложение уйти, а на приказ.
По пути к машине оба детектива молчали. Уже пристегнувшись, Кейт дала волю своему гневу:
— Слава Богу, она не моя свекровь! Ее драгоценный сынок — единственный, о ком она печется. Готова поспорить, он бы не женился на Анжеле, не заручившись одобрением собственной мамочки! Мамочка покупает дом, дает машину. И он еще хочет завести ребенка, так ведь? Она и это ему купит! А если Анжеле придется бросить работу, мамочка будет содержать их семью. Ей и в голову не приходит, что у Анжелы может быть собственная точка зрения, что она не обязательно хочет ребенка — или пока не хочет, — что ей, возможно, нравится ее работа в больнице, что она ценит свою независимость. Эта женщина совершенно безжалостна.
Кейт сама удивилась силе собственного гнева: на миссис Фарадей, с ее высокомерием, с ее превосходством, дающимся без всяких усилий, и на саму себя — за то, что не сдержалась, выказав тем самым собственный непрофессионализм. Гнев на месте преступления выглядел естественно и побуждал к действию. Детективу, очерствевшему настолько, что он, видя боль и бессмысленность убийства, не испытывает ни жалости, ни гнева, следует поискать другую работу. Но злиться на подозреваемого — баловство, ведущее к опасным искажениям в суждениях. Ее гнев, который она старалась обуздать, смешался с еще одним, столь же недостойным чувством. Посмотрев на вещи прямо и честно, Кейт с некоторым стыдом была вынуждена признать, что это классовая неприязнь.
Она всегда считала классовую войну уделом неудачников, слабаков и завистников — Кейт не из таких. Тогда почему же ее чувства столь сильны? У нее ушло немало лет и сил на то, чтобы прошлое осталось позади. Она, незаконнорожденная, никогда не узнает имени своего отца и смирилась с этим. Кейт жила в многоквартирном доме со своей вечно раздраженной бабкой, среди соответствующих запахов, шума и всеобщего чувства безнадеги. Но, сбежав к своей работе, вытащившей ее из этого квартала, не оставила ли она какую-то часть себя там, ту часть, которая заставляла ее сочувствовать бедным и обездоленным? Кейт сменила стиль жизни, друзей; сменила ценой невероятных усилий манеру говорить. Она вошла в средний класс. А теперь, когда перегородки рухнули, не оказалась ли она на стороне своих полузабытых соседей? Не эта ли миссис Фарадей, процветающая, образованная, либеральная — настоящий средний класс, — не она ли в конечном счете контролирует их жизнь? «Они ставят нам в вину нашу нелиберальность, которую им никогда не было нужды испытывать на себе! — думала Кейт. — Им не приходилось жить в муниципальной многоквартирной башне — с ее непотребным лифтом и непрекращающимся бессмысленным насилием. Они не посылают своих детей в школы, в которых классная комната — поле битвы и восемьдесят процентов детей не могут говорить по-английски. Если их детки ведут себя агрессивно, они посылают их к психиатру, а не в суд для несовершеннолетних. Если требуется немедленное вмешательство медиков, они всегда могут себе позволить частный визит. Чему ж тут удивляться? Конечно, эти гады могут себе позволить быть либеральными!»
Кейт сидела и молчала, глядя на длинные пальцы Эй-Ди на рулевом колесе. Он сказал:
— Все не так просто, Кейт.
«Конечно, конечно! Однако для меня все достаточно просто».
Вдруг Кейт сказала:
— Как вы думаете, она говорила правду? Ну, что эти отношения все еще продолжаются? Мы располагаем лишь ее словами. Вы считаете, что Анжела лгала в разговоре с вами?
— Нет, я считаю, что большая часть сказанного тогда — правда. А теперь, со смертью Дюпейна, она убедила себя, что связь и в самом деле была разорвана, что эти единственные выходные поставили бы точку. Горе может очень странно повлиять на способность человека воспринимать правду. Хотя если миссис Фарадей уверена в своих предположениях, то уже не важно, планировали любовники провести эти выходные вдвоем или нет. Если она верит, что да, они собирались, то мотив — вот он.
— Она располагала всем необходимым, и обстоятельства ей благоприятствовали, — подхватила Кейт. — Она знала про бензин: сама его туда и принесла. Знала, что Невил Дюпейн будет в гараже к шести, а работники музея к тому времени разойдутся. Она выложила это нам, не так ли? Все сразу.
— Миссис Фарадей была исключительно откровенна, даже удивительно. Однако о любовной связи она рассказала лишь то, что мы могли выяснить и сами. Я не могу себе представить ее просящей своего слугу, чтобы тот солгал. Если же миссис Фарадей и в самом деле планировала убийство Дюпейна, она бы позаботилась о том, чтобы ее сын не оказался под подозрением. Мы проверим алиби Сельвина Фарадея. Впрочем, если его мать сообщила, что он дежурил в больнице, думаю, что так оно и окажется.
— А связь? Должен ли он о ней узнать?
— Нет, если только не будет предъявлено обвинение его матери. Это было бы жестоко, — добавил коммандер.
Кейт не ответила. Дэлглиш, конечно же, не считал миссис Фарадей женщиной, не способной на такое убийство. Однако происхождение у них общее. Эй-Ди чувствовал себя там, в ее компании, своим. Этот мир был ему понятен. Странно. Никогда нельзя предсказать, на что окажутся способны человеческие существа. Дэлглиш знал это даже лучше, чем она. Перед поглощающей страстью рушится все: этические и юридические ограничения, привилегированное положение, образование, религиозные воззрения. Убийство способно удивить самого убийцу. Ей приходилось видеть на лицах и мужчин, и женщин замешательство: что они такое наделали!
— Всегда проще, если тебе не приходится видеть саму смерть, — говорил Дэлглиш. — Наслаждаться жестокостью может только садист. Большинство убийц старается убедить себя, что они не делали этого, не приносили больших страданий, что смерть была быстрой, легкой и не такой уж нежеланной для их жертвы.
— Правда, к данному убийству это не относится, — сказала Кейт.
— Да, — ответил Дэлглиш. — Не относится.
Офис Джеймса Калдер-Хейла располагался на втором этаже, в глубине дома, между Комнатой убийств и галереей, посвященной производству и занятости. Во время своего первого посещения Дэлглиш заметил слева от двери бронзовую табличку с обескураживающей надписью: «Комната хранителя. Посторонним вход категорически запрещен». Но сейчас его ждали. Он постучал, и Калдер-Хейл сразу открыл дверь.
Дэлглиша удивил размер комнаты. У Дюпейнов проблема дефицита места стояла не столь остро, как в более знаменитых музеях, так как их амбиции ограничивались лишь годами между мировыми войнами. Пусть так, но комната Калдер-Хейла была гораздо больше офиса на первом этаже.
Хранитель музея устроился со всеми удобствами. Большой затейливый стол стоял под таким углом к единственному окну, что была видна высокая живая изгородь, достигшая высшей точки золотого осеннего великолепия, а за ней — крыша коттеджа миссис Клаттон и деревья Хита. Отделка викторианского камина была не столь великолепна, как у тех, что в галереях. Встроенное в него газовое оборудование было сделано в виде тлеющих углей. Рвущиеся синие и красные языки горящего газа придавали комнате домашний вид; впечатление усиливали два кресла с высокими спинками, стоящие по сторонам. Над ним висела единственная картина: акварель деревенской улицы, видимо, кисти Эдуарда Бодена. Уставленные книжные полки закрывали стены целиком, за исключением камина и пространства слева от двери. Здесь стоял выкрашенный белой краской кухонный шкаф с покрытой винилом столешницей, на которой расположились микроволновая печь, электрический чайник и машина для приготовления кофе. Рядом высился холодильник, а над ним еще один шкаф с посудой. По правой стороне комнаты виднелась полуоткрытая дверь; при беглом взгляде становилось ясно, что это ванная. Дэлглиш смог увидеть край душевой кабинки и раковину. Про себя он подумал, что при желании Калдер-Хейл мог бы вообще отсюда не вылезать.
Бумага была везде: пластиковые скоросшиватели с вырезками из прессы, некоторые из которых потемнели от времени; на нижних полках выстроились толстые офисные папки; кучи исписанных листов еле помещались на столе; пачки связанных лентой машинописных листов громоздились на полу. Конечно, эти завалы могли оказаться накопившимися за десятилетия административными материалами, однако рукописи большей частью производили впечатление свежих. Вряд ли должность смотрителя в Дюпейне предполагала такой объем работы с бумагами. Судя по всему, Калдер-Хейл или сам затеял некую серьезную работу, или был одним из тех дилетантов, которые находят счастье в самом процессе научной работы; они не хотят — а может быть, и не могут — ее закончить. Калдер-Хейл не походил на представителя этой разновидности, и можно было подозревать в его деятельности нечто загадочное и сложное. Хотя сколь бы ценными ни были его деяния, он все равно оставался подозреваемым, непосредственно участвующим в жизни музея Дюпейна. Как и у остальных, у него были и средства, и шанс. А наличие мотива — это и предстоит выяснить. Вероятно, Калдер-Хейл в большей степени, чем все остальные, обладал необходимой безжалостностью.