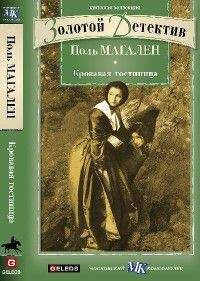– Пришлите, пожалуйста, письменные принадлежности и уведомите меня, когда все будет готово к отъезду.
Услышав, как маркиз отдал распоряжение подготовить все к его отъезду, нищий, расположившийся под окном, поднялся, потянулся и окинул взглядом площадь. Она была совершенно пуста. Июльское солнце ярко светило, распространяя невыносимый жар. Бродяга, едва переставляя ноги, потащился в ту сторону, откуда не так давно пришел. Странное дело: он пренебрег мелкими монетами, брошенными из окна молодым маркизом. Следуя мимо оград садов, тянувшихся вдоль одной из узеньких боковых улиц, нищий вышел за пределы городка, и тогда вид его совсем изменился: походка сделалась вдруг твердой и решительной, и он быстро направился к группе деревьев, вдававшихся клином в поле.
Дойдя до этой маленькой рощицы, бродяга остановился, огляделся и, не заметив ничего подозрительного, вошел под густую сень деревьев. Там, на крошечной поляне, стояла тележка с запряженной в нее крепкой маленькой лошадкой с длинной шерстью и сверкающими глазами. Хозяин потрепал ее по холке:
– Молодец, Кабри! Молодец, мой красавец! Сейчас мы отправимся в путь… дай только переодеться…
Кабри, словно понимая слова хозяина, потряс головой.
– Какой молодец, как воспитан! Мы здесь с утра, а ты ни разу не подал голоса. Правда ведь?
С этими словами нищий из-под покрывавших его тело лохмотьев вытащил прекрасные золотые часы!
– У нас с тобой в запасе еще три четверти часа, — проговорил он. — К счастью, знаю я этих кляч Антуана Ренодо. Если бы жандармы выезжали на таких в погоню за разбойниками, терроризирующими республику, то никогда бы не поймали ни одного. — С этими словами он забрался в тележку…
Прошло десять минут, по истечении которых Кабри почувствовал, что вожжи находятся в руках хозяина, а потому лихо рванул вперед и выскочил сквозь заросли кустарника в поле… Через несколько секунд тележка уже мчалась, как стрела, по дороге на Мерикур. В ней сидел крестьянин и, весело напевая и громко щелкая хлыстом, правил бойкой лошадкой.
Когда часы пробили четыре раза, Антуан Ренодо вошел в столовую доложить маркизу дез Армуазу, что все готово к его отъезду.
– Ваше сиятельство, лошадь оседлана, — возвестил он голосом, в котором слышалась глубокая печаль.
Молодой человек выпустил перо из руки и ответил:
– Я закончил… прикажите подать ножницы, свечу и сургуч.
– Сейчас…
Вслед за тем Гастон вырезал из большого листа бумаги конверт, вложил в него письмо, запечатал, сделал надпись и передал трактирщику со словами:
– Я полагаюсь на вашу порядочность и доверяю это письмо вам. Если в течение восьми дней, начиная с сегодняшнего, вы меня не увидите, то передайте письмо лично, слышите — лично — тому, чье имя указано на конверте. Можете ли вы мне это пообещать? Я приму ваше обещание, как клятву, данную перед Богом.
Трактирщик кивнул. Волнение мешало ему говорить. Затем почтенный горожанин поклонился и дрожащей рукой взял конверт. На нем была следующая надпись: «Гражданину Филиппу Готье, жандармскому поручику округа Мерикур».
Было уже почти девять часов вечера. Сумерки наступали быстро. Гастон дез Армуаз миновал Мерикур. Он галопом ехал по дороге на ухоженной, выносливой почтовой лошади. Его путь проходил по берегу речки Мадон. По обеим сторонам дороги тянулись виноградники, расположенные ярусами; поднимаясь по склонам, они доходили до дубовых лесов, за которыми местами виднелись голые скалы.
В июле появляется возможность вздохнуть свободно, только когда наступают сумерки. Но не так было этим вечером. На закате раскалившийся за день тяжелый воздух не стал прохладнее. Небо заволокло тучами, ни одна звезда не сверкнула в черной бездне. Все предвещало грозу.
Маркиз не переставая пришпоривал лошадь — не потому, что боялся вымокнуть под дождем, а потому, что торопился добраться до места. Его преследовало какое-то необъяснимое беспокойство. Было ли дело в предчувствии, которое овладело им в минуту расставания с Филиппом Готье, или его встревожили россказни Антуана Ренодо, но молодой человек находился в крайнем волнении.
За все время своего путешествия он не встретил ни единого экипажа, ни одного пешехода… Все селения, которые он проезжал, выглядели мрачными и пустынными и напоминали скорее кладбище… Если же жители этих селений и приотворяли двери в то время, когда маркиз проезжал по селу, то лишь для того, чтобы просунуть в образовавшуюся щель дуло ружья или выпустить сторожевую собаку.
Гастон мчался вперед. Перед его мысленным взором проносилась вся его прошедшая жизнь. Он вспоминал тихие дни своего безоблачного детства и отрочества, проведенные в маленьком особняке в ІІариже, когда отец его приезжал в столицу для представления королю; вспоминал лица и фигуры своих родителей: отца — сурового старика с воинственным выражением лица, чьи белые как лунь волосы длинными прядями спадали на темный, подбитый мехом плащ, расшитый серебряными шнурами и украшенный королевскими орденами; мать — дочь Эльзаса, с голубыми глазами и пышной грудью, с белым, будто фарфоровым, высоким лбом, обрамленным роскошными напудренными локонами.
Затем в памяти молодого маркиза промелькнуло время обучения, его наставник — почтенный аббат, внушавший ему строгие принципы нравственности, и, наконец, чиновник из Академии, обучавший его всему, что должен был знать дворянин: умению владеть шпагой, ездить верхом и кланяться дамам. Он припоминал свой дебют в Версале, Людовика XVI с тусклым взглядом — кроткого, доброго короля; маленького дофина с завитыми кудрями и, наконец, красавицу Марию-Антуанетту в дивном костюме пастушки.
Увы! Над этими дорогими его сердцу существами пронесся ураган революции, и все, что еще совсем недавно казалось незыблемым, превратилось в прах. Однако же мысли молодого эмигранта останавливались преимущественно на этом периоде жизни.
Когда пребывание в Париже для особ, приближенных ко двору, сделалось опасно, старик маркиз дез Армуаз, принявший новое назначение, отправил своих жену и сына в лоренские поместья в ожидании грядущих событий. По его мнению, должна была восторжествовать монархия. Европа и объединившееся дворянство не могли не уничтожить бунтовщиков-революционеров. Итак, маркиза и Гастон перебрались в замок Армуаз, где и прожили около года вдали от кровавых событий периода террора.
Следует прибавить, что ни в каком ином уголке Франции в те времена не было спокойнее, чем в Воже. Только один дворянин был гильотинирован в Мерикуре за то, что состоял в переписке с герцогом Брауншвейгским и князем Кобургским. Это было установлено из перехваченных революционерами писем. Впрочем, маркиз дез Армуаз поручил семью заботам своего старого ординарца и беззаветно преданного ему человека — Марка-Мишеля Готье, отца Филиппа Готье.
Марк-Мишель Готье был с виду здоровым и крепким детиной, который никогда не забывал оказанных ему услуг. В ту эпоху бушевавших страстей, черной неблагодарности и подлых измен его преданность своему старому господину была беспредельна. Чтобы обеспечить полную безопасность маркизе и ее сыну, бывший трубач Шамборана добился того, что его сделали президентом клуба якобинцев в Виттеле.
Вернувшись как-то из клуба в красном республиканском колпаке и с трехцветным шарфом через плечо — отличительным признаком его звания, — он сказал: «Простите, маркиза, этот маскарад, он необходим для вашей безопасности. Трехцветный шарф скроет бляху жандарма на моей груди, и, покамест под ней еще бьется мое сердце, ни один волос не упадет с головы моей дорогой госпожи и ее сына, ни один мошенник не дотронется ни до единого камня ее дома или дерева ее парка…»
Маркиза с чувством протянула руку преданному слуге. «Готье, — сказала она, — вы достойны принадлежать к нашему кругу. Вы благороднее некоторых так называемых представителей благородного сословия». — «Ах, маркиза! — вскрикнул тот, опускаясь на колени и целуя ее руку. — Вы награждаете меня, а я ведь лишь выполняю свою обязанность…»
Великодушный слуга растил дочь, рождение которой лишило его прекрасной и любимой жены, полковой маркитантки. Дениза, родившаяся во время одного из походов, была высокой, худощавой, жгучей брюнеткой и отличалась богатым воображением. Лицо ее выражало одновременно чувствительность и решимость. Длинные шелковистые локоны высокой короной были уложены над белым чистым лбом, формой напоминавшим лоб античной Юноны. Цвет глаз Денизы, то темный, то светлый, поставил бы художника в затруднительное положение.
Характер у нее был непростой, построенный на контрастах. Отец предоставил дочери полную свободу. Если она не сидела за плетением кружева, то гуляла по полям и лесам или задумчиво блуждала по улицам в полном одиночестве, погрузившись в меланхолию.