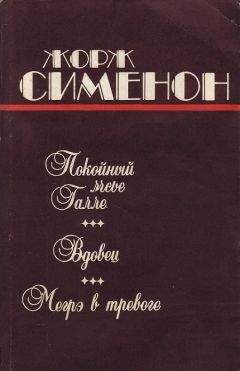Он показал на свой дом.
— Вот здесь… На третьем… Не бойтесь…
— А чего мне бояться?
Он вдруг подумал: не пьяна ли она? Она смотрела на него так, словно он принадлежал к другой человеческой породе, не к той, к какой принадлежала она сама. На лестнице она спотыкалась. А в комнате, когда она наконец увидела его при свете, ему показалось, что сейчас она расхохочется.
— Подождите… Сейчас я принесу воды и вату…
Она осматривалась по сторонам, нахмурив брови.
— А зеркала тут нет?
У него было только одно, маленькое, в металлической оправе, которое висело на оконном шпингалете у него в умывальной и перед которым он брился.
— Не шевелитесь… Я не сделаю вам больно…
Во время военных сборов он выполнял обязанности помощника санитара. Он сразу же понял, что хотя рана и довольно глубокая, щека не проколота насквозь. В сущности, это были две раны, слившиеся в одну. Лезвие ножа просто начертило на щеке крест размером примерно в пять сантиметров.
— У меня под рукой есть только настойка йода… Будет жечь. А потом надо будет зайти к врачу, и он наложит шов…
— Чтобы он донес на меня в полицию!
— Ну, если вы попросите его ничего не говорить…
— Они обязаны! Я их знаю.
Ей было лет двадцать, не больше. Брюнетка, маленького роста, ни красива, ни некрасива, а в ее вульгарности было что-то наигранное, так же, как и в ее уверенном тоне.
— Вы знаете того, кто это сделал?
Он был на двенадцать лет старше ее, считал себя человеком зрелым, но в ту ночь старшей чувствовала себя она.
— Хватит об этом! Но все-таки спасибо за хлопоты!
— Но вы ведь не уйдете так?
— А что мне остается делать?
— Вы не боитесь?
Да, да, она боялась, она испугалась внезапно — возможно оттого, что увидела в окно улицу Сент-Аполлин, а на противоположном тротуаре блондинку в голубом платье, — та уже снова была на посту. На углу двое мужчин, чьи папиросы вспыхивали во мраке, словно светлячки, по-видимому, наблюдали за этим участком улицы.
— Они ищут вас?
— Не знаю.
— Вам не кажется, что будет лучше, если вы проведете ночь здесь?
Он помнил ее взгляд, взгляд еще более тягостный от непонимания, от какого-то нелепого подозрения, чем могли быть любые неловкие слова.
Он поспешил добавить:
— Здесь есть другая комната, там, за дверью… А я буду спать в кресле…
— Я не хочу спать.
— Сейчас вам захочется. Как щека — не болит?
— Начинает болеть.
— Минутку. Я дам вам две таблетки аспирина.
— У меня есть, в сумочке.
Он перетащил плетеное кресло в ту комнату, которая впоследствии превратилась в столовую, и часов около трех, наконец, задремал. Впервые в его квартире спала женщина, и это приводило его в смятение, потому что он всегда думал, что всю жизнь будет один.
Наутро у нее поднялась температура. Он не спросил, как ее фамилия, ни даже, как ее имя. Пропитанное пылью черное платье валялось на полу рядом с потемневшими от пота туфлями со сбитыми каблучками. Грязные ноги торчали из-под одеяла. Волосы слиплись от крови, один глаз был окружен синевой.
— Никто не приходил?
— Нет.
— Посмотрите в окно. Меня никто не должен видеть. Не шатается ли по тротуару какой-либо мужчина?
Она потеряла свою уверенность прошлой ночью и тревожно вскакивала всякий раз, когда на лестнице слышались чьи-нибудь шаги.
— Это предупреждение.
— Что?
— То, что он мне сделал.
— Так вы знаете его?
Прошло две недели. На третий день он купил у старьевщика на улице Тампль небольшую складную железную кровать и по вечерам ставил ее в столовой. Ему приходилось просовывать ноги сквозь прутья решетки: ведь сначала на этой короткой кровати спал он.
Она уже бродила по квартире, босиком, в его халате, который заколола на себе булавками, как вдруг однажды утром, часов около одиннадцати, кто-то постучал в дверь. Приложив палец к губам и умоляюще взглянув на Жанте, она убежала и заперлась в умывальной.
Посетителем оказался Горд, тогда еще не такой толстый, не такой потный, потому что в тот день шел прохладный дождь. Еще не раскрыв рта, он оценивающим взглядом осмотрел комнату. Показав на дверь в столовую, он спросил:
— Она там?
— О ком вы говорите?
Он с презрительным видом протянул ему свое удостоверение.
— Девица Муссю. Жанна Муссю. Та, которую две недели назад заклеймил ее дружок. Что вы намерены с ней делать?
Он ничего не ответил, потому что в эту минуту еще не мог найти никакого ответа.
— Сегодня пятница, и вот вчера она уже во второй раз пропустила осмотр.
Жанте наивно спросил:
— Какой осмотр?
Горд посмотрел на него так, словно никогда в жизни не встречал подобного чудака.
— Медицинский осмотр. Уже не должен ли я подробно рассказать вам, что это такое? Когда женщина зарегистрирована как проститутка…
Жанте был уверен, что Жанна подслушивает за дверью, и это смущало его.
— А если она больше не хочет быть проституткой?
— Если так, то это уже будет не мое дело. Ей придется обратиться в полицию нравов, на набережной Орфевр, придется найти серьезного поручителя, средства к существованию, а также придется выполнить целый ряд формальностей…
— Но это возможно?
— Да, да! Все возможно, даже и это. У вас есть постоянная работа?
С насмешливой улыбкой он осматривал типографские буквы, уже тогда украшавшие стены.
— Так чем же вы, в сущности, занимаетесь?
— Я чертежник.
— И что это дает?
— Довольно, чтобы существовать.
— Холостяк?
Не снимая шляпы, инспектор ходил по комнате взад и вперед, зная не хуже, чем это знал его собеседник, что Жанна стоит за дверью. Он намеренно подходил время от времени к самой двери и останавливался, не открывая ее.
— Ну, как хотите… — вздохнул он, наконец.
Вот тут-то он и выглянул в окно, выходившее на улицу Сент-Аполлин, посмотрел на гостиницу напротив, потом перевел взгляд на покрасневшее лицо Жанте.
И вдруг сделал вывод:
— Но все это не мое дело… Этот фокус удается один раз на тысячу, и вы, как и все, имеете право попытать счастья… Пусть она зайдет к комиссару Депре, и лучше будет, если вместе с ней пойдете вы, захватив ваши документы, включая и справки от людей, у которых вы работаете… Не забудьте и справку о несудимости. Ну, а когда явится молодчик, вам останется только найти деньги, чтобы заплатить…
— За что заплатить?
— Эта публика… Знаете, когда у мужчины отнимают его женщину, тем самым у него отнимают заработок. Естественно, что надо возместить…
Дверь открылась, и Жанна сказала:
— Перестань, Бернар… Инспектор прав.
Было ровно три дня, как они стали говорить другу «ты», и после того, как это случилось впервые, он провел несколько часов, шагая по тротуарам и пытаясь осмыслить, что с ним произошло.
За эти восемь лет он нередко встречал на улице инспектора и каждый раз старался по возможности избегать его взгляда.
В течение нескольких месяцев они с Жанной жили взаперти, почти как в крепости, и когда она, наконец, вышла с ним на улицу, ее охватило настоящее головокружение.
А поженились они только спустя полтора года в мэрии II округа, причем свидетелей, по совету одного из служащих муниципалитета, нашли в соседнем бистро. Эти люди с одинаковым успехом бывали свидетелями и на рождениях, и на свадьбах, и на похоронах, и мэр или же его помощник делали вид, что не узнают их.
Неоновая вывеска подмигивала, автобусы еще изредка проходили под окнами, убыстряя ход по мере того, как дорога становилась пустынней, и теперь, в тишине ночи, голоса прохожих звучали громче.
Разумеется, там, напротив, женщины, две или три, новенькие или бывалые, прогуливались у дверей гостиницы, где порой освещалось одно из окон.
Он не засыпал, не закрывал глаза, продолжал следить, словно бы видя себя вскрытым на анатомической столе, за судорогами своих нервов, за пульсацией крови в своих жилах.
Нет, не может быть! Все его существо протестовало! Невозможно, чтобы по прошествии восьми лет инспектор Горд оказался прав, а он неправ! Дело было не в том, что происходило между ним и инспектором. Не в борьбе двух противоположных мнений. Проблема была шире этих мнений, даже шире всего, связанного с Жанной, и в голове Жанте она выросла в проблему космического масштаба. Весь мир оказался под вопросом, сама жизнь, и не жизнь одного мужчины и одной женщины, а жизнь — вообще.
За восемь лет они заполнили собой пространство, заключенное между этими стенами, из безымянного жилища они сотворили свою, особую вселенную, каждая деталь, каждая молекула которой была отмечена их печатью и принадлежала им — им одним.
Не ему. Не ей. Обоим.
Ритм их дней не зависел ни от боя часов, ни от восхода или заката солнца. Это был их собственный, глубоко личный ритм, который и создавал бег их времени, ускользавший от всех правил, от всех влияний извне.