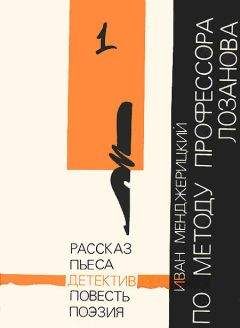И в этот момент зазвонил телефон.
— Следователь Крымов… Да… Здравствуйте… Конечно. В четверг вас устроит?… В десять утра?.. Хорошо… Пропуск вам будет выписан… До свидания.
Звонила вдова Мельникова — Вера Сергеевна.
… Юрий Кузьмич Агеев в тенниске, джинсах, сандалетах — подождал, пока мимо него промчится, набирая скорость, электричка, после чего перешел полотно железной дороги и двинулся по заасфальтированной аллее, стараясь оставаться в тени деревьев — день выдался жаркий.
Прошагал вдоль двухметрового сплошного забора из новеньких досок, подергал за ручку калитки. Она была заперта. Но его это не смутило. Он бросил взгляд по сторонам и, никого не увидев, легко подпрыгнул, подтянулся. Через мгновение уже подходил к строящемуся в глубине участка дому. Пока был готов только фундамент, внушительный, кирпичной кладки.
Строителей не было видно. Только из-за кустов раздавались монотонные звуки — кто-то рубанком снимал стружку с доски.
Мужик, ловко орудующий рубанком, был бородат, широк в кости, крепок. Появлению Агеева как будто не придал никакого значения — как стругал, так и продолжал стругать.
Юрий Кузьмич потоптался на месте, кашлянул, спросил:
— Ты, что ль, Петр Степанович?
Мужик, продолжая работать, сказал равнодушно:
— Память у меня стала сдавать. Никак вот не могу вспомнить, где это мы с вами на брудершафт пили.
— А-а-а, — тянул Агеев, подбирая слова, — это, стало быть, в том смысле, что на «вы» мне надо с вами?
— Стало быть. И со мной и со всеми другими незнакомцами.
Он, наконец, перестал работать, сел на бревно, уперся ладонями в колени.
— Ну, что скажете, отрок? Чем порадуете?
— Вы, случаем, не поп? — спросил Агеев.
— Похож?
— Есть маленько. И борода, и это — на «вы», и отрок. Да только глаз у тебя, извиняюсь, у вас — разбойничий.
Мужик весело захохотал, сказал благосклонно:
— Присаживайтесь. А Петр Степанович — это я. С кем имею честь?
— Яковлев Всеволод Матвеич, — отрапортовал Агеев. — Фининспектор станции «Трудовая» Савеловской железной дороги.
— Вас, Всеволод Матвеич, — спросил Курышев, — мама в детстве Севой звала? Севочкой?
— Севатрием, — ответил Юрий Кузьмич.
Петр Степанович в бороду улыбался, говорил:
— Нехорошо, отрок, врать. Не может мать своего любимого сыночка звать собачьей кликухой. Это раз. Два — вы такой же фининспектор, как я поп. Для непонятливых объясняю: что главное для фининспектора? Портфель. А у вас его со школьных лет не было. И еще есть одна маленькая деталька: ни станция «Трудовая», ни какая другая станция Савеловской же де, ни других наших стальных магистралей, не может позволить себе такую роскошь — иметь фининспекторов. Так что сами расскажете с чем пожаловали или придется вырывать у вас признание с применением пыток третьей степени? — И он бросил выразительный взгляд на тяжелую металлическую скобу.
— Ну, вы, Петр Степаныч, даете! — зашелся в смехе Агеев. — Нет, ей богу, вы мне подходите.
— Очень рад, — сказал Курышев. — И что же дальше?
— Так значит я Ваську Левшина на днях встретил. Ну, вы с ним на Украине шабашничали.
— Какой из себя?
— Среднего росточка, крепенький такой, черноволосенький.
— Без указательного пальца на левой руке?
— Он! Точно вы его срисовали.
— А теперь, Всеволод Матвеич, позвольте вам выйти вон.
— Это почему же?
— Для непонятливых объясняю: в бригаде у меня беспалых не было. Это раз. Два — никакого Ваську Левшина не знаю. Ну, так помочь до калитки дойти или сами докандыбаете?
Агеев облокотился спиной на груду досок, сказал:
— Я бы сам, да только кандыбать мне некуда и незачем.
— Вот это уже на правду больше похоже.
— Правда и есть.
— Допустим. Дальше.
— Старика на станции спросил: строит ли здесь кто дом. Он и подсказал.
— Ну?
— Деньги нужны.
— Всем нужны.
— Полторы тысячи нужны. Не отдам, могу загреметь.
— Так.
— А плотничаю на уровне.
Курышев вытащил из заднего кармана брюк листок бумаги, из-за уха достал карандаш. Изобразил какой-то орнамент.
— Берите топорик и изобразите.
Агеев взял доску, примерился, скосив глаза на рисунок, не очень-то умело принялся орудовать топором.
Петр Степанович по-прежнему сидел на бревнах, чему-то невесело улыбался. Потом подошел к Агееву, взял доску, прищурившись, оценивал работу:
— Желание есть, старание есть, с умением похуже. Ну, ладно. Считайте, что анкету вы заполнили, и отдел кадров не возражает. А теперь пошли.
— Куда?
— Бревно вон пилить.
Здесь у Агеева все получалось лучше. Пила у них в руках играла, звенела.
— Дом за полтора месяца надо поставить, — говорил ему Курышев. — Работать придется от зари до зари. Сухой закон у нас. Перекуров не бывает. И еще — за день до окончания работы уйдете навсегда — не получите ни копейки.
— Суровы вы, Петр Степаныч.
— Но справедлив.
— А как же мы вдвоем за полтора месяца дом поставим?
В бригаде есть еще два человека, Всеволод Матвеич. В отличие от вас — классные специалисты — и плотники, и каменщики, и отделочники. Николай Николаич Назаров — математик, и Владимир Константиныч Уваров — врач-рентгенолог.
— Ну и шабашка у вас! — восхитился Агеев. — Вы часом, Петр Степаныч, не кандидат наук, не доктор?
— Нет. Всего лишь инженер-строитель с большим стажем.
— А чего же в шабашники вы все подались?
— Как и вам, деньги нужны. Почему бы математику и врачу-рентгенологу в отпуск не подзаработать?
— Святое дело, — согласился Агеев, — вы тоже в отпуске, Петр Степаныч?
Курышев посмотрел на него, даже пилить перестал, и пила, взвизгнув, трепетала в воздухе.
— Должно быть, с утра не ели вы ничего, Всеволод Матвеевич. А голодные страх как любопытны.
— А чего я такого спросил?
— Не оправдывайтесь. Оправдание, как говорится, сгубило невинность. Ну так как — по чашке чая и бутерброду?
— Можно.
Они расположились на бревнах. Из большого китайского термоса Курышев разлил чай по стаканам. Вынул из фольги аппетитные бутерброды.
— Лишние вопросы и ответы, — говорил Петр Степанович, — накладывают определенные обязательства. И тогда уже не просто шабашка, а глядишь — и дружба начинается.
— А вы против дружбы?
— Для непонятливых объясняю: главное в этой жизни не втягиваться в отношения.
— Ну, это вы не правы. Дружба это…
— Вот вы бы и шли к своим друзьям. Брали бы у них полторы штуки. А вы к незнакомым прикандыбали.
— Кто же вас так обидел, Петр Степаныч? — спросил Агеев. — За что с работы-то поперли?
— Меня? — засмеялся Курышев. — Да отпускать не хотели. Директор спецтреста, где я работал, Мельников, дважды лично уговаривал остаться. А он — один из самых настоящих людей, которых я в жизни встречал.
— Мало платили, что ли?
— На шабашке, конечно, больше выходит. Но денег тогда хватало.
— А потом — пагубные страсти? Кино, вино и домино? Или покруче — водка, лодка и молодка?
— Задам я вам, отрок, небольшую задачу. Жил-был человек. Была у него красавица жена, хорошая квартира. И друг верный. Спрашивается: что должно было произойти, чтобы в один не слишком прекрасный миг он всего этого лишился? Задача решается в одно действие.
— Проще простого, — сказал Агеев. — Человека этого посадили.
— Глупости. Красавица жена носит передачи, верный друг добивается в инстанциях снисхождения. А квартира — куда она денется — живи не хочу.
— Тогда так. Он с женой попадает в автомобильную катастрофу. Со смертельным исходом. Верный друг умирает от тоски. А в квартире поселяются очередники райисполкома.
— Неслабо, — одобрил Курышев. — Вы в детстве, Всеволод Матвеич, стишками не баловались? Это я к тому, что с фантазией у вас все в порядке и с образным мышлением тоже… Задачу усложняю: все трое живы и двое из них даже, похоже, счастливы.
— С этого бы и начали. Тоже мне задачка. Красавица жена спуталась с верным другом…
— Зачем же так грубо?
— Ну, полюбила его. А верный друг, оказывается, уже давно пылал к ней страстью. Только чем-то они должны были пожертвовать и оставить мужу, бывшему, квартиру, чтобы он не вкалывал на шабашке на кооперативную.
— Есть такая поговорочка: «Он не так глуп, каким он кажется, когда вы его узнаете поближе».
— Спасибо. Только одно непонятно, — проговорил Агеев. — Зачем из треста было уходить?
— Чтобы с бывшей женой не встречаться, поскольку она тоже там служила.
— А зачем…
— За работу, отрок. За работу. А то нужную сумму не получите, а это ведь бог знает к каким последствиям привести может…
Георгий Анатольевич Лебеденко производил впечатление человека потертого, тронутого молью, хотя на нем был дорогой костюм, на галстуке сверкал зажим старинной работы с красивым камнем, может, и рубином, и часы Георгий Анатольевич носил старинные, массивные, золотые, и такой же массивный старинный перстень украшал его безымянный палец. Перстень был великоват, и Лебеденко, любуясь им, то поглаживал его, то крутил вокруг пальца. И костюм, который сидел идеально, и все прочие аксессуары были словно не его — из пункта проката, что ли, с чужого плеча.