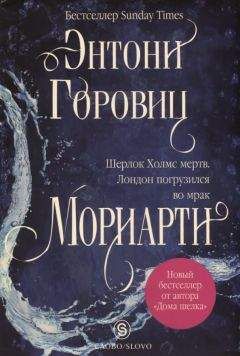– Сомневаюсь, что это и есть райские врата, – пошутила Ирен. – Пойдемте скорее. Век бы не видела это жуткое место.
Годфри, который всю дорогу сдержанно молчал – следует отдать должное его безупречному воспитанию, – в морге оказал нам неоценимую поддержку. Он легко затмевал тамошних служителей по части красноречия и национальной любви французов к жарким спорам и бюрократической волоките. Достав кипу документов, перевязанных тесьмой и скрепленных восковой печатью с невнятной символикой, он помахал бумагами перед смотрителями морга, что встретили нас на входе. У всех троих к форме было приколото несколько разных значков; смотрители презрительно улыбались. Вскоре между ними и Годфри вспыхнул бесконечный поединок жестов.
Наконец нас пропустили, и, миновав ворота, мы прошли через множество мрачных помещений, каждое из которых напоминало склеп. Годфри повернулся ко мне, вспомнив, что, в то время как Ирен успешно преодолевала языковой барьер, я о него лишь спотыкалась.
– Я объяснил им, что мы действуем в рамках французского права. Теперь они должны просмотреть журнал и выяснить, где находится интересующий нас труп.
– Какая прелесть.
– Только за последние два дня из мокрых объятий Сены вызволили двенадцать мертвецов. Мы ведь не хотим осматривать лишних.
– Разумеется. – Я бросила взгляд на Ирен, которая все это время демонстрировала несвойственную ей кротость.
Подруга словно прочла мои мысли:
– Образ торговки с пристани может запугать французского рыбака, но не чиновника. Подумай о судьбе великих французских красавиц времен Революции. Порой даме следует помолчать.
Я пожала плечами, не выдавая своего испуга. Жуткие каменные стены представлялись мне столь же холодными, сколь их обитатели. Я в ужасе оглядывала комнату с высоким потолком, где хранились данные об усопших. Наш проводник листал массивный том, словно святой Петр в День Страшного суда. Стараясь не смотреть на длинные списки людей, столетиями умиравших в Париже от чумы, на гильотине и даже, осмелюсь предположить, из-за преклонного возраста, я принялась изучать обстановку.
Спустя некоторое время мой взгляд упал на одинокий ангельский лик – гипсовый слепок лица маленькой девочки. Ее образ светился таким блаженством, что казалось, будто сквозь закрытые глаза взор ее устремлен прямо на небеса.
Ирен тоже ее заметила. Не разделяя моего восхищения, подруга разглядывала маленького ангела с толикой недоверия, словно пред ней была леденящая душу Медуза горгона. Ирен шепнула что-то на ухо Годфри; он тоже взглянул на девочку и похолодел, зачарованный удивительной силой, что исходила от ее образа. Годфри обратился к нашему проводнику за разъяснениями.
Проводник ответил скучающим взглядом, по-галльски пожал плечами и принялся что-то лопотать на резком французском выговоре.
Годфри вновь бросил взгляд на лицо девочки. Казалось, ему передалось волнение супруги.
– Что-то не так? – спросила я.
– Это одна из знаменитых «inconnues de la Seine». В переводе с французского – «сгинувшие в Сене», то есть утопленники, которых так и не удалось опознать.
– Она утонула и ее так и не опознали? Так как же она может быть знаменитой? – удивилась я.
– Никто не знает ее имени, но всем известна ее печальная судьба, – ответил он. – Ее нашли много лет назад. Выражение ее лица было таким… возвышенным, что парижане сняли с него гипсовый слепок. Узнав об этом, многие сделали себе копии, украшая ими свои коттеджи и гостиные. В ее честь женщины какое-то время пользовались более светлой пудрой. Как это обычно бывает, вскоре сия мода канула в Лету, но морг по-прежнему чтит память бедняжки, храня в своих стенах посмертную маску.
– Лицо ее, конечно, чрезвычайно выразительно, – признала я. – И все же! Французы поражают своей кровожадностью. Я слышала, что посмертные маски Людовика XVI и Марии-Антуанетты сделали сразу же после казни несчастных.
– Это еще что, – сказала Ирен. – Маски делала та самая женщина, что создала скульптуру королевской семьи Бурбонов в дореволюционные времена. Она привезла свои работы в Лондон и открыла выставку на Бейкер-стрит – музей мадам Тюссо. Когда вернемся, обязательно его посетим, если он, конечно, никуда не переехал.
– Вот это да! Неужели ты заинтересовалась еще одним домом на этой улице? Ведь двести двадцать первый бэ по-прежнему не дает тебе покоя. Но история несчастной малышки просто ужасна. Впрочем, как бы ни была жестока настигшая ее смерть, девочка, должно быть, совсем не боялась загробного мира.
– Неужели тебя это утешает? – возмутилась Ирен. – Очевидно, земная жизнь была ей просто невыносима, раз она рассталась с ней со столь нескрываемой радостью! Этот блаженный лик – памятник бесчеловечности, а не раю. Она лишилась всех надежд. Вот к чему приводит то, что называют праведной жизнью, и именно поэтому я считаю подобную добродетель грехом.
Я вновь пристально посмотрела на слепок. Нет, то был не слепок, а настоящее лицо, столь странным образом хранившееся в морге все эти годы. Эти пустые глаза… Грустный, чуть приоткрытый рот… Быть может, она была серафимом, что готовился спеть… или юной торговкой, смотревшей смерти в глаза. Одно я знаю точно: когда-то она была жива, жива и одинока – никто не пришел за ее телом, на нее лишь глазели, как на какую-нибудь безделицу.
И вдруг у меня промелькнула страшная мысль: старый морг навеки окутан мрачной тенью смерти, ведь ни камень, ни гипсовый слепок, ни бесконечный шум реки не смогут утешить даже того, кого уже нет в живых.
Смотритель провел пальцем по очередному списку и воскликнул:
– Ага!
Его палец остановился на безымянном номере. Смотритель отстегнул от пояса тяжелую связку ключей, и мы последовали за ним в глубь здания.
Внизу стоял жуткий холод. Узкие ступени вели нас все ниже и ниже, в самое чрево морга, освещенное канделябрами, испускавшими густые клубы дыма. Усопшие покоились в многочисленных подвальных помещениях с низкими потолками. В одном из них мы и нашли утопленника: он лежал на похоронных дрогах, куда более грязных, чем обеденный стол Брэма Стокера.
– Хорошо, что они еще не сняли с него одежду, – сказала Ирен, и я ответила ей молчаливым согласием. – Годфри, напомни, пожалуйста, кем нам приходился умерший.
– До службы на флоте он был слугой в нашем доме.
– Ах да.
Ирен кивком указала на левую руку, покоившуюся на грубых деревянных досках. Кожа была так бледна, что взгляд невольно примечал черные волоски на наружной стороне кисти, почерневшие ногти и – страшнее всего – отсутствие среднего пальца.
– Старая рана, – изрек Годфри. – Можно было бы подумать, что он таким родился, если бы не шрам.
– И какой аккуратный! – добавила Ирен. – Будто резали тесаком или лезвием гильотины. Все остальные пальцы целы. Кажется, кто-то намеренно лишил его среднего пальца, как и того покойника из Челси. Не так ли, Нелл?
– Что касается аккуратности, соглашусь. Судя по нетронутому суставу, разрез выполнен с хирургической точностью. Может, рану обработал врач?
– Даже хирург не залечит рваную рану. Думаю, этот человек сознательно пожертвовал пальцем. Равно как и утопленник из Челси.
– То есть они отдали пальцы… добровольно? – недоверчиво спросил Годфри.
Мне эта мысль тоже показалась сомнительной.
– Но, Ирен, с момента первой смерти прошло уже несколько лет. Как они могут быть связаны?
– Вероятно, с пальцем – хоть и не с жизнью – оба расстались в одно и то же время.
Ирен одарила ангельской улыбкой нашего проводника – низенького мрачного человека, чьи кончики усов свисали до самой груди.
– Менсьё, – начала она, намеренно коверкая произношение. – Можем ли мы… – Изящной ладонью, затянутой в лайковую перчатку, она указала на мертвеца и повернулась к Годфри.
Как и подобает мужчине, супруг примадонны поспешил прийти на помощь, бойко заговорив по-французски.
Словно зачарованная, я наблюдала за жарким спором, разгоревшимся между Годфри и служителем морга. Достаточно было одного лишь взгляда на землистое лицо смотрителя, чтобы понять, какие эмоции бушевали в его душе: сперва возникло вежливое недоумение, затем сомнение, изумление, отчаянное сопротивление, неуверенность, нежелание, отвращение…
Годфри изъяснялся с ним свободно и плавно, словно мирная Сена, беспрерывно несущая свои волны.
В конце концов смотритель сдался: взглянув на нас с Ирен в последний раз, он подошел к мертвецу и начал расстегивать его рубашку.
– Anglais[16], – презрительно процедил он.
Я, конечно же, опечалилась, что любопытство подруги, свойственное американкам, вызвало столь негативную оценку моих соотечественников, но, увы, была не в силах возразить.