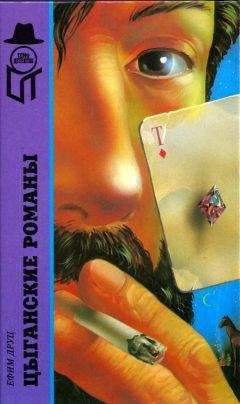— Дело такое, — сказал вдруг Раджо, — что по цыганским законам мне, мужику, с тобой не положено знаться. Но ты с виду не бикса.
— Заблудшая я, — смирно, привычно ответила Вика. — Запуталась я, золотой, и сама не знаю, чего хочу.
— И со мной такое бывает, — с горечью произнес Раджо. — Это как в лесу: вроде бы все знакомо, идешь и идешь, а потом дурман нападет, и плутаешь. У нас говорят в таких случаях: лесовой хозяин водит. Невзлюбит — и водит.
— Лесовой хозяин? Леший, что ли?
— Вроде того. Добрым-то он помогает.
— И меня кто-то по жизни водит, — сказала Вика.
Загремела дурная музыка, оркестр старался вовсю.
— А ты чем занимаешься? — спросила Вика.
— Я — чер!
— Что это? Не понимаю.
— Вор я, цыганский вор!..
Вика удивилась. Но стало еще интереснее. Таких она не встречала.
— Налей-ка мне, Раджо, еще шампанского. Везет мне на чудаков. Вот и с вором познакомилась.
— А что вор? Все — судьба. Она и ведет по дороге. Так, значит, записано на небесах. Я, например, и не думал воровать. Жил в таборе, коней менял, кочевал, а что в Москву попаду, и не мыслил.
— Раджо, — раздался вдруг голос подошедшего Графа, — красивую девчонку ты подцепил. — Граф по-свойски подмигнул Вике, где-то они уже встречались, но он не хотел обнаруживать знакомство.
— Присаживайся, морэ, выпей с нами, — сказал Раджо.
— Спасибо, морэ, — ответил Граф. — Хочу сказать тебе кое-что.
— Говори, она нам не помешает, что ей до наших дел?
Вика не поняла, о чем они толковали. Разговор шел обиняками. Поминали какого-то музыканта с гитарой… Граф посидел, пригубил шампанского, на коньяк посмотрел брезгливо, зная ему цену. Ушел наконец…
— Пошли отсюда и мы, Раджо, — сказала Вика. — Не хочу быть здесь…
Ночь облегла окна. Вика и Раджо вновь и вновь ощущали друг друга. От Раджо пахло табаком. Но этот запах, смешанный с запахом пота Раджо, был почему-то приятен Вике. У него было горячее крепкое тело. Она трогала пальцами его мышцы. Живот его был плоским, упругим. Раджо был первозданен, природен. Вика давно не теряла себя так, как с ним. Вбирая его могучую плоть, она все никак не могла насытиться его силой. Они любили друг друга со страстью молодоженов.
Но настал момент, и Вика вдруг отключилась.
Проснулась она в постели одна — Раджо исчез, как сладкий недолгий сон. В окна глядело утро. Хотелось есть и выпить чаю с лимоном.
Умолкла в доме электропила, донимавшая Кнута, с улицы не было слышно машин и людских голосов. Молчал телефон. Кнут не привык к тишине. Иногда он молил о ней Дэвлу, вспоминая одного старого цыгана, проведшего жизнь в кочевьях. «Тишины бы мне, морэ, тишины…» — просил тот. Тогда Кнут был слишком молод, чтобы понять старика, а позже и он беззвучно орал: «Тише!» Но вот пришла тишина, а ему беспокойно и хочется шума жизни. А то город как будет вымер. И отчего-то становится жутко. Это проделки богини Сары Кали… Она хитра и коварна чисто по-женски. Выждав, она наносит удар.
Кнут забылся коротким сном. Его разбудила Анжела. Собственно, не будила, а вошла, стала у изголовья, и он очнулся, ощутив ее присутствие. Так бывало всегда.
— Что нужно? — спросил Кнут.
— Мешаю?
— Я думал, ты уехала.
— Уехала бы, — сказала она, — да ты здесь один. Не боишься?
— Мне одному неплохо. Привык я. Музыке нужно, чтоб было тихо.
— Музыка! Твоя музыка! Сколько ты заработал, морэ? Ловэ тебя не волнуют, а я не могу жить музыкой. Ты вроде в мире чужой. Да все мы, рома, живем как чужие.
— Помолчи, Анжела, — сказал Кнут.
Но та продолжала:
— Цыгане всегда воровали, чтобы выжить. А ты не воруешь ли жизнь у меня?
— Почему же не уходишь? — спросил Кнут. — Это не табор, здесь наш закон не действует, в таборе бы с тобой рассчитались.
Анжела невесело засмеялась:
— Того мира давно уже нет — ни цыганской свободы, ни старых запретов… Вижу бродяг на улицах, грязных, полуголодных детей; они воруют и побираются в городах. Любишь нашу музыку — уходи в кочевье, живи, как они.
Кнут встал, негромко сказал:
— Не понимаешь меня, Анжела, прощай…
Она кинулась ему на шею. Забормотала, обнимая, целуя, плача:
— Оставь все это. Не могу без тебя. Уедем за границу. Ты такой музыкант, что всем будешь нужен.
— Э, Анжела, надо еще кое с чем разобраться.
Кнут махнул рукой. Не первая это сцена. И не последняя.
В дверь позвонили. Анжела вытерла слезы, пошла открыть. Возвращаясь, бросила с горечью:
— Твои друзья… — и вышла на кухню.
— Что с ней? — спросил скрипач. — Шунэс, морэ[36], что с твоей ромны[37]? Заболела?
— Ага, — сказал Кнут. — Проходите, чявалэ. Чаю выпьем.
— Сыр дживэс, морэ?[38] — спросил высокий худой цыган.
— Ничего, — ответил Кнут. — Понемногу.
— Как твои гитары поживают?
— Есть проблемы, — сказал Кнут, — но думаю, уладятся. Подустал я в последнее время.
— В табор езжай, давно ты хотел. А то, пока приедешь, многие оттуда исчезнут.
— А что такое, морэ?
— Я вот тоже в ансамбль хочу.
— Правильно, брат. Как тебя отпустили?
— Сбежал. Шуму будет! Барон пришлет за мной людей.
— Барон!.. Да ты что? Он уже не обращает внимания.
Кнут достал пару бутылок. Когда вошла Анжела с чайным подносом, на столе уже были стаканы с водкой.
— Тавэн бахталэн, чявалэ![39] — Кнут выпил залпом.
Цыгане взглянули на это с некоторым недоумением.
— Настроение такое, — пояснил Кнут. — Спой-ка, брат, — попросил он худого цыгана, — а я тебе подыграю.
Они оба взяли гитары.
Мы в степях все, как дома,
Багандян сада рома.
Всю ночь до зари
Багандя чаери.
Темным лес да поляна —
Вот приют для цыгана.
С песней кочевой
Мы живем одной семьей.
— Понравилась? — спросил цыган.
— Старинная, — сказал Кнут. — В тысяча девятьсот десятом году ее положил на ноты Александр Александрович Панков. Автор ее — петербургский цыган, из хора Николая Ивановича Шишкина.
— Откуда ты все это знаешь, морэ?
— Городские рома рассказывали.
— Хоровые, что ли?
— Ну да, — сказал Кнут.
— Есть они еще?
— Те, что живы, — старики да старухи. Скоро совсем никого не будет. Ну, ромалэ, примем еще по одной!
И они выпили, и зазвучали песни. Тишину растворила музыка, шум нарастал, жизнь продолжалась.
— Хотел давно спросить тебя, морэ, — сказал худой цыган, — что за фламенко такое? Слыхали мы в одном городке на концерте, что это песни испанских цыган. Очень мне это дело пришлось по душе — фламенко.
— Это и песни, и танцы — фламенко. В Испании, в Андалусии, у цыган эта музыка стала своей, вобрав в себя элементы арабские и испанские. В общем — народная, понял, морэ?
— Ты увлекся, — внезапно сказала Анжела. — Думаешь, он тебя понял?
Худой цыган взглянул удивленно:
— Почему она, морэ, думает, что я тебя понять не могу? Ты — наш, и я тебя понимаю.
— Анжела, — сказал Кнут, — пойди-ка чаю завари…
Анжела вышла.
— Ну ладно, брат, — сказал худой, — попили, попели, спасибо тебе, поедем. Кстати, помощь не нужна?
— Какая помощь? — насторожился Кнут.
— Прослышал я, что у тебя не все ладно. Не чурайся таборных, зови в случае Чего.
Цыгане удалились, а Кнут прилег, закрыл глаза, ему послышалась грустная песня, уплывающая в леса…
Дождь хлестал. Одежда Кнута намокла, под ногами хлюпало. Он досадовал, что вышел без зонтика, и размышлял о предстоящем разговоре со старым бароном. Городские цыгане ему подвластны не в меньшей мере, чем таборные. Он в курсе всех дел. Кнут уже рассказал ему о своих проблемах, теперь снова шел к нему.
Дождь между тем утих, небо посветлело, и настроение Кнута улучшилось.
Барон встретил радушно, велел женщине заварить чаю. Глаза его лучились. Но он ни о чем не спросил, не торопил Кнута высказаться. Однако и не сидел на месте. Прохаживался, помаргивал.
А Кнут расслабился. Ему хорошо было здесь, у своих. И чай был отменный, крепчайший…
Снова надвинулся дождь, за окнами стало сумрачно. Барон заметил:
— С утра льет и льет. Пора бы машину завести, а то из дому не выйдешь. Ты что ж без зонтика? В городе надо зонт, морэ.
Закон есть закон. Гость должен пить чай. Гость скажет сам, с чем пришел. Думая об этом, Кнут улыбался. Наконец отодвинул чашку, высказался:
— Дело мое известное, дадо. Как быть? Раджо дал мне короткий срок, ты уже знаешь. А за его спиной — Граф. Я вроде блокирован.
— Знаю, помню, — сказал барон. — Оба ответят. Нельзя своих обижать. Разберемся.
— В таборе, дадо, было попроще. Цыган цыгана не продавал.