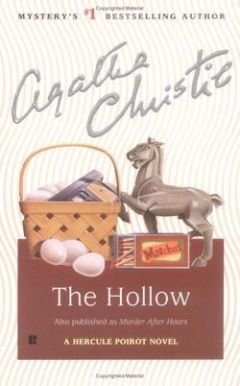— Зачем объяснения? Что они изменят? Машина готова?
— Готова.
— Тогда едем!
Он подумал о красивой дороге, по которой им предстояло ехать. Аромат осени… Люси и Генри… Генриетта…
Генриетту он не видел целых четыре дня! В последний раз он опять на нее рассердился. Его раздражал этот взгляд, который, казалось, был устремлен куда угодно, но только не на него. «Конечно, — думал он, — она художница, и у нее большой талант. Но когда я с ней, она обязана думать обо мне и только обо мне». Эти мысли были несправедливы, и он это знал. Генриетта всегда мало говорила о своей работе, гораздо меньше, чем все его знакомые художники. Только редко она уходила в себя, думала о чем-то своем, и в такие моменты как будто бы совершенно забывала о нем. Это было ему понятно, но все равно невыносимо.
Как-то раз он серьезно спросил Генриетту, смогла бы ли она все бросить, если бы он ее об этом попросил.
Очень удивленно она спросила:
— Что значит «все»?
— Все это! — Он уже упрекал себя за этот вопрос, не следовало его задавать, но он широким жестом обвел все, что находилось в мастерской. Он думал: «Она должна согласиться, это не будет правдой, я знаю, но ведь должна же она понять, что это мне так необходимо. Мне нужна эта ложь, для моего покоя! Пусть она скажет: „Конечно“, и мне будет совершенно все равно, что она думает на самом деле».
Генриетта долго молчала, ее глаза приняли отсутствующее выражение, брови нахмурились, наконец, она ответила:
— Конечно. Конечно, если бы это было совершенно необходимо!
— Что вы хотите сказать, что вы подразумеваете?
— Я не могу ответить точно, Джон! Совершенно необходимо, ну, как ампутация, например.
— Значит, для вас это было бы жестокой хирургической операцией?
— Вы рассердились? Какого же ответа вы ожидали?
— Вы сами прекрасно знаете. Одного слова было бы достаточно — «да». Почему вы его не сказали? Всем людям вы хотите доставить удовольствие, а обо мне думать не хотите! Почему вы отказали мне в этой лжи? Почему?
— Не знаю, Джон, не могу — и все. Я не могу… Он быстро ходил по мастерской, потом сказал:
— Вы сводите меня с ума, Генриетта. Мне кажется, что у меня нет никакого влияния на вас.
— Для чего вам это нужно?
— Я не знаю, но я бы этого хотел. Я хочу быть первым.
— Вы и так первый, Джон!
— Нет. Как только я умру, вы с пылающими от слез глазами сразу же начнете лепить женщину в трауре или еще какое-нибудь выражение «Скорби»!
Она тихо сказала:
— Может быть, это верно!.. Да, вы безусловно правы… Но ведь это ужасно! — Она остановилась рядом с ним, в глазах ее был страх…
Пудинг, как оказалось, сгорел. Герда поторопилась взять вину на себя.
— Это я виновата, дорогой! Как это получилось, не понимаю, дай мне эту верхнюю сгоревшую часть.
Джон не ответил. Пудинг сгорел, потому что он задержался у себя в кабинете. Потому что предавался там этим нелепым мыслям, потому что он думал о Веронике, Генриетте и мамаше Крэбтри. Вина лежала исключительно на нем. Но это упрямство Герды — зачем ей есть сгоревшую часть? Для чего эта игра в страдание? Почему Теренс смотрит на него круглыми удивленными глазами? Почему Зена все время фыркает? Почему они все такие противные?
Его гнев в конце концов обрушился на Зену.
— Ты можешь, наконец, высморкаться?
Герда вмешалась:
— Я думаю, дорогой, что у нее насморк.
— Нет! Вечно ты воображаешь, что они больны. Нет у нее никакого насморка!
Герда вздохнула. Она никак не могла понять, почему ее муж, жизнь которого целиком посвящена чужим болезням, может быть совершенно безразличен к здоровью своих родных. Он даже не допускает мысли, что кто-то может заболеть и в его семье.
Зена важно заявила, что до завтрака чихнула восемь раз.
Джон встал.
— Мы кончили? Тогда поедем! Ты готова, Герда?
— Сейчас, Джон. Мне осталось упаковать несколько мелочей…
Он сделал ей замечание, что времени у нее было достаточно и она могла бы все уже упаковать. Джон покинул столовую в очень плохом настроении. Герда поспешила в спальню. Она должна поторопиться.
«На что она использовала утро? — думал он. — Почему до сих пор не готова? Почему?..» Его собственный чемоданчик уже стоял у дверей.
К отцу подошла Зена с колодой изрядно засаленных карт.
— Папа, хочешь, я тебе погадаю? Я очень хорошо это умею! Я уже гадала маме, Терри и многим другим.
— Давай!
Джон, думал о том, что Герда опять заставляет себя ждать. Ему не терпелось покинуть этот опостылевший ему дом. Он хотел скорее оставить этот город, населенный больными, шмыгающими носом людьми. Он хотел увидеть деревья, вдохнуть запах палой листвы, скорее встретить Люси — эту удивительную женщину, у которой, казалось, отсутствует плотская оболочка.
Зена разложила карты на столе.
— Вот здесь, в середине, это ты — червонный король.
Я кладу другие карты лицом вниз, две слева, две справа, одну сверху — это карта, которая имеет власть над тобой, а карта внизу — над ней ты имеешь власть. Последнюю карту я кладу на тебя.
Она глубоко вздохнула и продолжала:
— Теперь мы их перевернем. Справа от тебя бубновая дама.
«Генриетта», — подумал Джон. Его забавлял торжественный вид ребенка.
— Рядом с ней валет треф. Это молодой человек, очень спокойный и очень тихий. Слева от тебя восьмерка пик — это неизвестный противник. У тебя есть неизвестный враг, папа?
— Насколько я знаю, как будто бы нет, — улыбнулся Джон.
— Рядом дама пик — старая дама.
— Леди Люси Эндкателл! — сказал он.
— Теперь посмотрим, кто сверху, кто имеет власть над тобой. Червонная дама!
Он подумал: «Вероника!» — и сам удивился Вероника в его жизни уже ничего не значила.
— А вот карта внизу, над ней ты имеешь власть — дама треф!
В комнату вошла Герда и сообщила, что готова. Зена стала протестовать:
— Подожди, мама, осталось совсем немножко. Я гадаю папе. Нам осталось открыть только одну карту, ту, которая его закрывает!
Маленькими, не очень чистыми пальчиками она перевернула карту.
— Ах, — громко воскликнула она. — Туз пик!.. Это означает смерть! Но…
Джон встал.
— Не волнуйся. Сейчас твоя мама задавит кого-нибудь по дороге из Лондона. Поехали, Герда! Зена, Теренс, до свидания! Постарайтесь быть умными и хорошими.
В субботу утром Мидж Хардкастл спустилась около одиннадцати часов. Она позавтракала в постели, почитала, снова заснула. Как хорошо вот так предаваться лени. Сейчас она была в отпуске. Вот вернется на работу, там опять измотают нервы! Ярко светило солнце. Она улыбнулась. Сэр Генри Эндкателл сидел в кресле в саду и читал газету. Он поднял голову и улыбнулся Мидж, которую очень любил.
— Вы уже встали, Мидж!
— Немного поздно!
— Ничего подобного! К столу вы не опоздали!
— Как здесь хорошо! Это доставляет такое удовольствие — быть здесь!
Она села рядом.
— У вас усталый вид…
— Нет, я чувствую себя прекрасно! Я так счастлива быть там, где не увижу толстых дам, которые пытаются влезть в платья, слишком узкие для них.
— Это, наверное, в самом деле отвратительно, — сказал сэр Генри. Он посмотрел на часы и продолжал:
— Поездом 12.15 приедет Эдвард.
— Давно уже я его не видела, — задумчиво проговорила Мидж.
— Он совсем не изменился. Почти не выезжает из Айнсвика.
Айнсвик! Что-то кольнуло Мидж в сердце. Какие чудесные дни она когда-то провела в Айнсвике! Об этом она когда-то мечтала месяцами. Она считала дни, сколько раз, проснувшись ночью, она повторяла: «Я поеду в Айнсвик!» И, наконец, этот день наступил. Большой скорый поезд из Лондона останавливался на маленькой станции. Нужно было специально предупредить начальника поезда, иначе остановки бы не было. Их уже ожидала машина. Сразу же на границе владения начиналась аллея его столетними деревьями, а за последним поворотом появлялся большой белый приветливый дом. Обычно их встречал сам дядя Джеффри в своем старом твидовом пиджаке.
— Ну, малыши, забавляйтесь и развлекайтесь! — говорил он.
Они с удовольствием следовали его совету, они все: Генриетта, приехавшая из Ирландии, Эдвард, который тогда учился в Итоне, она сама, вырвавшаяся из огромного и скучного индустриального города. Айнсвик был для них раем на земле.
Для Мидж Айнсвик был прежде всего Эдвардом. Большой, милый, иногда немного застенчивый, очень вежливый Эдвард. Но на нее он внимания не обращал, из-за Генриетты, конечно…
Он всегда был очень сдержанным, исключительно скромным, казался таким же гостем, как они. Она была просто поражена, когда узнала, что когда-нибудь это владение перейдет к Эдварду. Ей объяснили: у дяди Джеффри только один ребенок — дочь Люси. Она не может стать наследницей, наследование идет по мужской линии. Самый близкий родственник — Эдвард.
Сейчас в Айнсвике жил Эдвард, один. Мидж спрашивала себя, не жалеет ли Люси, что Айнсвик достался другому. Вряд ли. К таким вещам Люси была совершенно безразлична. Но ведь она там родилась, а ее двоюродный брат Эдвард был моложе ее на двадцать лет. Ее отец — сэр Джеффри — был очень богат, значительная часть его состояния перешла к Люси. Эдвард по сравнению с ней был даже беден. Когда он уплатил все, что следовало при получении владения, у него сталось совсем немного.