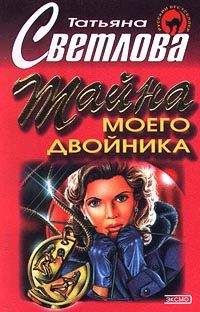Татьяна СВЕТЛОВА
ТАЙНА МОЕГО ДВОЙНИКА
ГЛАВА 1
ПОЧТИ КАК У ТОЛСТОГО: ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ. НО ОЧЕНЬ КОРОТКО.
Жила-была я, белобрысая и худая, и звали меня Олей.
Впрочем, меня и сейчас зовут Олей, и я до сих пор жива, хотя это странно, после всего того, что с мной приключилось. За это время я несколько раз чуть концы не отдала.
Нет, не правильно, в романах пишут так: чуть не лишилась жизни.
* * *
Я, значит, худая и высокая. В детстве я жутко комплексовала перед мерцающими женскими портретами в Третьяковке, глядя на тонкие, нежно светящиеся овалы лиц и округлые покаты плеч, подернутые великолепными кружевами… Потому что у меня торчат косточки в плечах, а локти и коленки такие острые, что об них можно уколоться. Моя мама, полненькая хлопотунья (в кого это я уродилась такая шкетка!), с сожалением в голосе говорила: худышка ты моя, личико-то у тебя еще ничего, а вот тельце — как у муравья! Бабушка моя, еще более кругленькая хохлушка, к которой я ездила в деревню под Полтавой, каждое лето горестно качала головой и называла меня «худорба», стараясь за короткое время каникул впихнуть в меня побольше сметаны и вареников. Папа мой не говорил ничего: они развелись с мамой, когда я была маленькая, и поскольку он был человеком сильно пьющим, то не интересовался ничем, кроме водки.
Но мне подвезло: подоспела мода на худых, и ближе к концу школы я стала самой модной девочкой не только в классе, но и в школе. Конечно, не только потому, что я была худая. Я была еще высокая. И льняные — некрашеные, заметьте! — волосы спадали по моим худым плечам пышной гривой. Да и глаза у меня ничего… Голубые. Ресницы-то белые, брови тоже, и до старших классов я была бесцветная, как моль. Но потом освоила технику макияжа и…
Свежевылупившаяся грудь уже круглилась под моей белой кружевной кофточкой, которую я нахально выдавала за «пионерскую». А короткая юбка открывала почти всю длину моих стройных и слегка синих ног — кожа у меня белая и тонкая, и вены через нее просвечивают, как через капрон. Но летом — под загаром не заметно, а зимой — под чулками не видно. Кажется, это был последний год пионерских форм и пионерии вообще.
Что же касается моего характера, то он, как говорится, закалился в боях. А бои были, мои личные бои, да какие! А все дело в том, что мама сумела меня пристроить в английскую спецшколу. Уж не знаю, в чьи задницы маме пришлось делать уколы (она у меня медсестра) чтобы меня туда взяли… Но взяли. И я оказалась в революционной ситуации: я была пролетаркой, бледной и худой, одна против буржуазии. Тогда их так не называли, но это была буржуазия: детки завмаг и завсклад, как говорил Райкин (вернее, как за ним повторяла моя мама, самого Райкина я помню довольно смутно), — они переняли у своих родителей высокомерные замашки и фальшивые вежливые лица, они знали как жить и как себя держать, какой надо вилкой-ложкой-ножкой; они судили, по-старушечьи поджав губы: это вульгарно, это неприлично, — и косились трусливыми глазами на меня.
Трусливыми, потому что знали, что я могу и треснуть. Я была проста, как Ленин, который был прост, как правда.
Но постепенно я научилась не обращать на них внимания, я научилась внутренне защищаться, я научилась не изменять себе и не терять достоинства в любых ситуациях. Уж как это было трудно — всему этому научиться — я вам и рассказывать не стану, а то у меня повествование получится исключительно про это. Скажу вам только, что мне это удалось, потому что, как в мультяшке, «птица Говорун отличается умом и сообразительностью», где под птицей Говорун я подразумеваю себя лично.
Одним словом, маленький гадкий и очень закомплексованный утенок превратился в лебедя, в королеву.
Со мной стали не просто считаться — передо мной стали заискивать те самые девицы, которые раньше обливали меня презрением с ног головы за мои худые коленки, белые ресницы, бедные одежки и неумение (и нежелание) подлизываться и интриговать. Меня вдруг стали осыпать комплиментами — и какая де я красивая, и какая де прямая, и положиться на меня можно, и дружить со мной очень хочется…
Да только поздно. Теперь мне не хочется.
С парнями я тоже не дружила — сама понимаете, какая дружба может быть, если ты являешься предметом восхищения и влюбленности почти всех пацанов от младших до старших классов! И, признаться, без малейшей взаимности с моей стороны.
Мужчины вообще ко мне липли. В школе, во дворе, на улице, в транспорте. Перед мной тормозили машины, распахивались двери и оттуда высовывались самодовольные морды «новых русских» — так их позже прозвали, уж не знаю, отчего. Кто каким был, тот таким и остался, ничего нового. Только деньги в карманах завелись — вся и разница. Я, глядя на них, клялась, что никогда ничего общего со мной эти мужики иметь не будут!
И напрасно.
То есть не совсем, но… Впрочем, сейчас вы все поймете, потому что я вам все расскажу.
* * *
Дело было зимой. Я тогда училась в последнем классе, в одиннадцатом. Народ собирался на тусовку на старый Новый Год, 1991 год, у одного из наших парней — богатенького сынка богатеньких родителей. Родителей, правда, дома не было — они сами ушли куда-то справлять, а нам свою квартиру предоставили.
Все было чудесно, мы ели, пили, танцевали, смеялись и целовались с парнями, танцуя. Мне ужасно нравилось, что за мной ухаживают, что в меня влюблены, но мне никто из них не был интересен. Я не торопилась расставаться ни со своей невинностью, ни со своей свободой, а для утешения моего девического самолюбия у меня и так было все, что нужно. Единственно, чего у меня не было — это хорошей шубы — я донашивала еще с восьмого класса старую цигейковую шубенку, маловатую и потертую, — и карманных денег. А красивые шмотки, представьте себе, были — мне мама шила, да как! Фирменно.
Из-за денег и из-за шубы я комплексовала немного, но совсем немного, самую малость.
* * *
В тот вечер я напилась. Нечаянно. Не заметила, как это получилось. Пила что-то сладкое, вроде лимонада, а вдруг оказалось, что у меня кружится голова и что меня начало пренеприятнейшим образом подташнивать. В темной комнате мотались разноцветные вспышки цветомузыки, я почти висела на шее у Вадика, хозяина квартиры, танцуя с ним медленный танец, и он все больше прижимался ко мне, целуя меня куда-то за ухо, и я не противилась этому, потому что была самым искренним образом озабочена. Только моя озабоченность не имела ничего общего с сексуальной: чувствуя, что мне становится все хуже и хуже, я боялась пошевелиться и пыталась сообразить, что можно предпринять в подобной ситуации.
И потому я не сразу поняла, что в комнате произошло какое-то замешательство.
Потом до меня дошло, что все как-то притихли и музыку приглушили.
Я оглянулась. В дверях комнаты, в проеме яркого с непривычки света, падавшего из прихожей, стоял мужчина лет двадцати шести в дубленке нараспашку. И смотрел прямо на нас, на Вадика и на меня.
— Дядя, — оторвав свою щеку от меня, сказал Вадик пьяно, — что ты здесь делаешь?
«Дядя» гаркнул весело: «Здравствуйте, детишки», — и направился к нам, протянул мне руку:
— Игорь. Дядя Вадика.
— Ольга, — сказала я кокетливо и вдруг поняла, что хотя я уже не танцую, а стою на месте, — комната продолжает кружиться у меня перед глазами. И еще я поняла, что меня уже не подташнивает, а тошнит.
— Пора расходиться, — сказала я сдавленно, — до свидания, мальчики, до свидания, девочки, до свидания, дядя!
И я кинулась почти бегом к дверям квартиры — не хватало еще только, чтобы меня вытошнило прямо на глазах у этого дяди!
Я ринулась вниз, по лестнице, из подъезда, в снег. За моей спиной неслись крики Вадима: «Постой! ничего не кончилось! Ты не поняла! Дядя просто так зашел!» Это он, к счастью, ничего не понял, этот Вадим. Я содрогалась от рвоты.
Когда болезненные рывки внутри меня прекратились, я замела ногой снег на отвратительное розовое пятно — хорошо, что Вадиковы соседушки уже спят и никто, похоже, меня не видит! — и тут в поле моего зрения, на фоне белого снега, появилась рука в рыжем дубленочном рукаве и протянула мне чистый платок.
Я повернулась. «Дядя Игорь» стоял у меня за спиной, без улыбки и без заигрывания, но и не хмуро смотрел на меня.
— Все в порядке? — спросил он меня спокойно.
Я кивнула.
— Тебе надо что-нибудь выпить, чтобы убрать неприятный вкус во рту, — сказал он. — Садись. — И он открыл дверцу машины, которая стояла тут же у подъезда.
Меня бил озноб. Я хотела было спросить, куда он собирается меня везти, но у меня не было сил. Он был не посторонний человек, все-таки дядя Вадима, и я доверилась его опеке. Не домой же мне было, в самом деле, идти на глаза к маме. Она потом полночи будет валокордин пить.
* * *
А приехали мы в ресторан. В такой ресторан, который я только в кино видела. Я даже не знала, что в Москве такие существуют — уже.