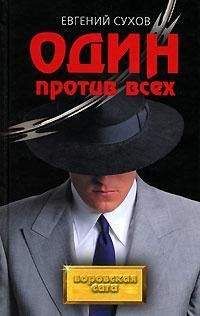— Не может быть, я с ним расстался вчера вечером, — похолодело внутри у Куликова. А ведь ему казалось, что со смертью Ольги у него атрофировались все чувства.
— Его зарезали через полчаса после того, как вы уехали.
Кулик с силой распахнул дверцу:
— Я убью его!
— Стойте, — придержал Крачковский за плечо Кулика, — вам не следует показываться! Если вас не обнаружит милиция, то достанут воры. — Он посмотрел на часы. — Хочу вам сказать, что Носорога уже четыре минуты, как нет в живых. Это вам от меня подарок за то, что вы до самого конца были с Ольгой. Теперь у вас на одну проблему стало меньше.
— Кто вы? И какое отношение имеете к Володе Груше?
Губы Ильи Семеновича растянулись в невеселой улыбке:
— Если я вам скажу правду, вы все равно не поверите. Пускай лучше это останется тайной. Скажем так, с Володей меня связывают некоторые дела. А теперь прощайте, через три часа мой самолет улетает в Лондон.
Куликов пожал протянутую руку и вышел из машины. Молча, очень привычно, за руль иномарки уселся Ёрш. Пятнадцать секунд — и «БМВ» вне пределов видимости.
Стась Куликов побрел к своей «четверке».
Когда он уже собрался отъезжать, его внимание привлекла группа монахов из пяти человек. Они смиренно стояли с ящичками в руках и терпеливо ожидали пожертвований. Приобщиться к святому делу решил и Стась Куликов. Выудив из кармана остатки мелких купюр, он сунул их в руку седобородому старцу с длинными спутанными космами, неприбранно торчащими из-под шапочки.
— Помолись за меня, — неожиданно для себя произнес Куликов.
Старик привычно и без эмоций пообещал, подняв на прохожего чистые, почти юношеские глаза. На мгновение их взгляды встретились, и лик старца омрачился едва заметной печалью.
— В монастырь тебе к нам надо, мил человек, — произнес старик мягким обволакивающим голосом. — К отцу Серафиму, он у нас святой. Любую душевную болезнь снимет.
— С чего ты взял? — насторожился Кулик.
— Глаз у тебя дурной, — бесхитростно, словно пятилетний ребенок, отвечал старик. — Очиститься тебе надо. Если этого не сделаешь, сам пропадешь и еще многих за собой потянешь.
По коже Кулика пробежал холод — вот и не верь после этого тому, что существуют пророчества. Старик сказал так, словно всю жизнь рядом протопал.
— Вот как монахи говорят, чтобы копейку у обыкновенных мирян выцыганить, — отшутился Стась Куликов, пытаясь за робкой улыбкой спрятать суеверный ужас.
Глаза монаха сохраняли прежнюю серьезность.
— Не все монахи так говорят, а только те, кто в чужую душу заглянуть способен. Да и ты не так прост, как хочешь выглядеть, — сдержанно заметил старец.
Возможно, Куликов нашел бы что ответить — на языке даже крутилась подходящая фраза, но его удержал благочестивый облик монаха, взиравшего на него смиренным агнцем.
— Ладно, прощай, монах, — слегка насупился Куликов.
— До свидания, сын мой, у жизни все пути короткие, да и те ведут к храму. Вот там и встретимся, — не без лукавства ответил старик.
Куликов ушел, но спиной чувствовал кроткий взгляд монаха. Это какую жизнь нужно прожить, чтобы до самой старости сохранить наивность во взгляде.
Не совладал с собой, обернулся. И тут же углядел легкий кивок чернеца. Странный, однако, старик, даже попрощался с таким видом, как будто они расстаются не навсегда, а лишь на несколько дней.
Куликов зло захлопнул дверцу и, уже не оборачиваясь на монахов у обочины, заторопился в новую жизнь. Дорога проходила через большое богатое село, где каждый дом напоминал мурованный детинец. И немного в стороне, взобравшись на возвышенность, стоял монастырь, обнесенный высоким каменным забором. Он выглядел старым, но не ветхим, и, видно, тот, кто выкладывал его стены, заранее полагал, что творение с легкостью перешагнет многие столетия и без труда отыщет себе место даже среди повального безбожия.
Совершенно неожиданно для себя самого, вероятно, подчиняясь какому-то внутреннему позыву, Куликов крутанул руль и съехал на грунтовую дорогу, что ненавязчиво уводила к храму. Минуту Стась еще колебался, не решаясь выйти, а потом, когда понял, что это не просто какой-то каприз воспаленного сознания, решительно покинул машину.
Ворота были закрыты. Дважды стукнул в кольцо — видно, такое же древнее, как и сам монастырь, — и когда в окошечке появилось озабоченное лицо привратника, сказал:
— Мне бы к отцу Серафиму попасть.
Очевидно, подобная просьба для служителя была не в диковинку, в глазах ни удивления, ни радости — дело-то обыкновенное. Резанула слух скрежетом задвижка, и дверь бесшумно открылась.
— Его келья на второй клети справа, — бесцветно уточнил монах и, как на посту, замер у ворот.
Дорогу Куликов не знал, но, что было неожиданно, у него вдруг возникло ощущение, будто он не однажды топал этой тропой. И если бы его попросили описать келью монаха, то он сумел бы сделать это в мельчайших деталях.
Постучавшись в тяжелую железную дверь, он услышал молодой голос, приглашавший его войти. Перешагнув порог кельи, Куликов не без удивления отметил, что звонкий тенорок принадлежал старику лет восьмидесяти. Что ж, видно, и такое бывает на свете.
На приветствие отец Серафим ответил с достоинством, чуть наклонив голову. И, оказавшись рядом со стариком, Стась Куликов вдруг непривычно оробел под его пронизывающим взглядом. Он молчал, но внутренне ощутил, что диалог их уже начался.
— Что скажешь, сын мой? — просто произнес Серафим, ладонью указав Куликову на место рядом с собой.
На лавку сели почти одновременно: Стась немного торопливо, монах неспешно. Чуть скрипнули сосновые доски, но гнуться не стали — выдюжили.
— Исповедуй меня, отец Серафим, — взмолился Куликов, — грешен я.
— Знаю, — просто ответил старик.
Внутри у Куликова что-то ворохнулось. Не слишком ли много пророков ему встретилось за последние полчаса?
— Откуда?
— Святые сюда не приходят, — улыбка у старика получилась доброй. — Давай я тебя укрою, сын мой, монашеская ряса хоть и не епитрахиль, но святости у нее не отнимешь. — И невольно, как будто ему не впервой исповедаться, Куликов опустился на колени. — Что тебя мучит, сын мой, рассказывай.
— Убийца я, святой отец, — заговорил, словно задышал, Куликов, — кровь на мне.
Серафим не удивился откровению. Лицо его стало печальным.
— Велик твой грех, сын мой. Приходилось мне исповедать душегубцев… тяжкий это крест. Что ж делать, и они христиане, разве откажешь в помощи заблудшим? Как же это произошло, сын мой, в сердцах или по корысти?
Куликов не спешил подниматься с колен, смотрел вниз, чтобы не встретиться взглядом со старцем. И, к своему немалому изумлению, обнаружил, что монах бос.
— По корысти, — произнес Куликов, не в силах оторвать глаз от большого пальца правой ноги. Почерневший ноготь был уродливым, будто спотыкался о каждый придорожный камень.
— Это хорошо, что ты пришел, сын мой, другие таят грех в себе, а потому спасения им не узнать. Рассказывай дальше, облегчи свою душу.
Горький комок подкатил к самому горлу и не желал проглатываться.
— Хорошо, отец, отвечу как на духу, — пообещал Стась Куликов. И слезы, стыдливо выступившие в уголках глаз, неожиданно сорвались с ресниц и медленно поползли по щекам, натыкаясь на жесткую щетину.
Куликова прорвало. Слова полились из него неудержимым потоком. Он вспоминал себя прежнего, когда впервые вытащил из кармана у зазевавшейся бабульки кошелек, рассказал о первом сроке и об унижениях, что пришлось испытать в камере для малолеток. Старик не перебивал, лишь иной раз качал красивой седой головой, давая тем самым понять, что слушает с большим вниманием. Только однажды он крякнул, когда Куликов поведал об Ольге, и вновь его глаза, наполненные невысказанной печалью, продолжали смотреть на него спокойно и глубоко.
— Этот монах был последний, кто встретился в моей жизни, — признался Куликов. — Вроде бы ничего особенного не сказал, а вывернул мою душу наизнанку. Вот поэтому я здесь, отец.
Прошло четыре часа. К монастырю Стась подъехал днем, а сейчас — глубокий вечер. Звезд не видать. Только в самой черноте сквозь белесые облака проглядывал тусклый месяц.
— Да, растревожил ты меня своим покаянием, — честно признался чернец. — И простить трудно, и грехи не отпустить не могу. От самого сердца слова идут, не каждому подобное удается. Видно, крепко тебя приперло. Я-то тебя прощу, сын мой, как могу облегчу твои страдания, только ведь есть и другой суд — божий, а он пострашнее будет.
Минуты две стояла мертвая тишина, ни шороха, ни дуновения ветерка, будто время остановило свой бег, давая шанс подумать — что дальше. Прошли минуты, а показалось — целая вечность. Осторожно, чтобы не напугать старца, Кулик решил нарушить молчание и побеспокоить его необычной просьбой.