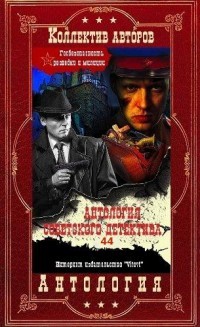Комиссар был неутомим: вел политбеседы, проводил читку газет и журналов, читал ребятам вслух «Радугу» Ванды Василевской и постоянно жаловался Черняховскому:
— Слушай! Что мне еще делать? Ну какой я комиссар — ведь в первый раз!..
Черняховский пожимал плечами.
— И я в первый раз в тыл врага. А в общем больше жизни!..
Максимыч, этот веселый, простодушный человек, легко и быстро сдружился с группой. К нему, тридцатилетнему коммунисту, стали относиться, как к старшему брату, взыскательному, но доброму. Он умел ладить с молодежью — до того, как Астраханский окружком партии командировал его в спецшколу, он работал, военруком сельской школы. Неотесанный, даже мужиковатый, он не умел блестяще и звонко чеканить слова. Порой во время беседы он заставлял фыркать Володю Анастасиади своей образной, но не очень грамотной речью.
Однажды Володя получил письмо из дому, из Москвы, от родителей — первое письмо за все время разлуки. Не утерпев, на радостях прочитал письмо Максимычу. Тот выслушал письмо и с невыразимой тоской сказал:
— Вот оно как получается, Анастасьев, — так он всегда называл Володю Анастасиади. — До Москвы, почитай, полторы тыщи километров отсюда, а родные пишут тебе, а до моих рукой подать, в соседней области проживают, но писать не могут — под немцем они.
И Володька узнал, что в селе Кочкино Заветинского района Ростовской области кЬмиссар оставил молодую жену Олю и годовалого сынишку, старуху мать и всех родных.
— А ты, Анастасьев, слышал, как поступают фашистские каты с большевистской родней? Завтра я вам всем расскажу…
На следующий день члены группы «Максим» собрались на ежедневную политинформацию в красном уголке. На стенах класса висели плакаты: «Народ и армия непобедимы», «Завоеванный Октябрь не отдадим», «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет!» А рядом — совсем другие плакаты: «Устройство автомата ППШ», «Ручной пулемет Дегтярева»… Над батареей центрального отопления недавно повесили новый плакат: «За Волгой земли для нас нет!»
После политинформации Максимыч читал группе очерк Шолохова «На юге», опубликованный в «Правде»:
— «…Перед вечером проскакали через деревню ихние мотоциклисты. Потом прошло шесть штук танков, а следом за ними пошла пехота, на машинах и походным порядком. К ночи стала на постой часть какая-то особая: у каждого солдата по бокам каски нарисованы черные молнии, каждый глядит чертом…»
— Обожди, комиссар! — прервал чтение Черняховский. — Кто мне скажет, что это была за часть? Ну, что в рот воды набрали? Больше жизни!..
Все тринадцать курсантов молчали, и вид у них был совсем сконфуженный, как у школьников, не подготовивших урок.
— Эх, вы, разведчики называется! Долбили же вам!..
Хотя Черняховский был всего, на десяток лет старше большинства своих подчиненных, он, как это нередко бывает у людей старшего поколения, уже успел убедить себя, что поколение, встретившее войну на школьной скамье, зеленее, и желторотее, и во всех отношениях не чета тому поколению — поколению Черняховского, — которое строило Комсомольск и Магнитку, рвалось в Испанию, воевало в финскую. Ему казалось, что и Володя Анастасиади, и Нонна Шарыгина, и все юнцы в его группе избалованы, «слабы в коленках». Потому и хмурился он и говорил резко, с раздражением, твердо веря, что по-настоящему воевать, да еще в тылу врага, могут только его ровесник:.
Нонна Шарыгина — самая младшая в группе — вспыхнула вдруг и подняла руку.
— Тебе что? Из класса приспичило выйти? Пылая жаркой краской от обиды, Нонна сказала:
— Это была дивизия СС «Викинг». Вы нам говорили — каски у них с черным знаком СС по бокам…
— Ай да пигалица! — изумился командир. — Давай дальше, комиссар!
— Так вот что пишет про зверства фашистских мерзавцев мой земляк Шолохов: «…Вышел я на рассвете за калитку. Гляжу — сосед мой, Трофим Иванович Бидюжный, лежит возле колодца убитый, и ведро возле него валяется, Убили за то, что ночью вышел воды зачерпнуть, а по ихним законам мирным жителям ночью и до ветру выйти не разрешается. Утром они еще одного, хлопчика двенадцати лет, застрелили. Подошел он к ихней мотоциклетке поглядеть — ребятишки-то ведь до всего интересанты, — а фашист с крыльца прицелился в него из револьвера, и готов. Мертвых хоронить не разрешали. Матери-то каково было глядеть на своего сынишку! Глянет из окна, а он лежит около сарая, снегом его заносит, глянет — и упадет наземь замертво…»
Голос комиссара вдруг прервался, все перенеслись мысленно из донской станицы, где бесчинствовали «викинги», в класс астраханской спецшколы и с изумлением заметили, что по плохо выбритой щеке комиссара, коммуниста, тридцатилетнего казака, застревая в щетине, ползет слезинка. Все смотрели куда угодно, только не на Максимыча. Володя Анастасиади вспомнил разговор с комиссаром накануне и подумал, что он еще не ответил родителям. А Черняховский резко проговорил:
— Дальше, комиссар!
Максимыч пожевал против воли кривящиеся губы и, дернув кадыком, тихо продолжал, низко склонив голову:
— «…Что же, лежит малое дитя, согнулось калачиком и к земле примерзло. Девки возле школы лежали: юбки поверх голов завязаны телефонной проволокой, ноги в синяках…»
— Читай, читай, комиссар! Больше жизни!
— «Кому надо мимо школы проходить, стороной обходят. Только тогда и прибрали убитых, когда эта часть ушла…»
Каждый день этих двух недель комиссар деревянным голосом читал одну и ту же сводку: «Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и юго-восточнее Нальчика».
…Странными делами приходилось порой заниматься командиру диверсионно-разведывательной группы. Черняховский добился досрочной выдачи сухого пайка для группы. Получив его на складе, сунул в вещмешок несколько банок консервов и шматок сала с лиловой казенной печатью и сказал подвернувшимся Коле Лунгору и Володе Владимирову:
— Пойдемте со мной. Дело есть.
Добыв увольнительные, он повел ребят прямиком на базар, по дороге инструктируя их:
— Вы, я вижу, ребята оборотистые. До зарезу нужны спички. Две-три «катюши» — кресало с огнивом. Вот вам полтыщи, после праздника осталось. Но деньги сейчас почти ничего не стоят. В «сидоре» — харч. Задача — выменять спички на консервы и сало. Патрулю не попадаться. Ясно?
— Ясно… — неуверенно протянул Лунгор, поглядывая на базарную толкучку. — Только я слесарь хороший и снайпер-подрывник ничего вроде, а вот насчет базарных дел слабоват.
— Ты мне про себя не рассказывай, — отрезал командир. — Все про тебя знаю, футболист. Жил ты, Коля-Николай, под Лисичанском в Донбассе, слесарил, в футбол знаменито играл, а пришел немец — отец с матерью в оккупации остались, а ты эвакуировался, браток, на Урал. Там тебя призвали, в июле ранили под Ростовом, потом — госпиталь, а теперь ты партизан и выполняешь мой приказ. Может, я тебя еще и там, в тылу у немцев, вот так на базар пошлю. В часть без спичек и «катюш» не возвращаться. — Он посмотрел на Владимирова, всегда грустноглазого и задумчивого, но ничего не добавил, сказал только: — Все! А ну, больше жизни!..
И пошли на толкучку слесарь Лунгор и Владимир Владимирович Владимиров, названный так в детдоме безымянный и бесфамильный подкидыш, ставший в пятнадцать лет рабочим-судосборщиком, а в семнадцать — подрывником в группе «Максим».
Нахмурясь, Черняховский проводил их глазами и прошелся по базару. Цены не радовали — за кило сала просили шестьсот рублей, за кило говядины — двести, за литр молока — полсотни, кило хлеба — сто рублей. Он выбрался из толпы и зашагал по лужам на полевую почту — надо было черкнуть матери, сообщить, что он скоро уезжает в длительную командировку, что она будет получать за него деньги по аттестату — семьсот рублей в месяц. Надо будет ребятам из группы сказать, чтобы не забыли деньги родителям послать — для многих это будет первая в жизни получка. А может, мать с отчимом уже эвакуировались? Ведь только Кавказский хребет отделяет немцев от Сухуми. Сложив исписанный листок треугольником, он написал адрес: Сухуми, санаторий «Агудзера», Черняховской Нине Георгиевне. В санатории теперь, наверно, госпиталь…