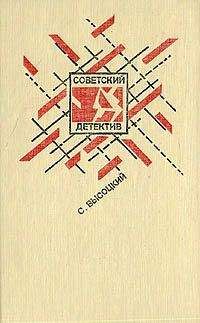Она пошла его провожать.
— Дочка у тебя красавица. Я как увидел её — сразу вспомнил Зою Лапину. Кстати, а сейчас у тебя какая фамилия?
— Лапина, — ответила Зоя Петровна. — Мы так с мужем договорились. После войны все друг друга разыскивали, я и подумала — так моим родственникам будет проще. Если кто захочет разыскать.
Таня вышла из кухни.
— Я тоже хочу с вами проститься, Игорь…
— Васильевич.
— Игорь Васильевич. Очень рада была с вами познакомиться. — Танины слова опять прозвучали кокетливо, и мать с удивлением покосилась на неё. — Вы к нам ещё заедёте?
Корнилов посмотрел на Зою Петровну. Она молчала, но и в её больших глазах он почувствовал вопрос.
— Обязательно заеду, — сказал Игорь Васильевич.
…В райотделе Бугаев играл в шахматы с Петром Андреевичем. Оба выглядели усталыми, серыми. Рядом с шахматной доской стояли стаканы из-под чая, на листе белой бумаги лежало полбатона.
«Не ушёл Пётр к домашним разносолам, — тепло подумал Корнилов. — Дождался». А вслух сказал:
— Давно мог дома быть, жену в кино сводить успел. Я у вас тут афишу видел: «Укол зонтиком». Французская комедия. Обхохочешься.
— А вы её видели, товарищ полковник? — с удивлением спросил Бугаев.
— Люди говорят, — смущённо буркнул Корнилов. — Мы сейчас едем, а к тебе, Пётр Андреевич, одна просьба — выяснить досконально, почему отключилась сигнализация в сберкассе? Завтра пришлю толкового эксперта. Но только чтобы ни одна живая душа об этом не знала. Ты, твой начальник розыска, наш эксперт. И если надо — можешь с Лапиной советоваться.
— Всё понял, Игорь Васильевич, — серьёзно сказал Замятин. — Лапина серьёзная баба, правда?
— Правда. А Рогозина у неё увольняется. Хочет в городе работу искать. Проверьте её связи в Зеленогорске. И тоже чтобы комар носа не подточил. Если за ней кто-то кроме Лёвы Бура стоит, они прохлаждаться долго не будут.
…Всю дорогу до Ленинграда ехали молча. Бугаев дремал на заднем сиденье, а Игорь Васильевич рассеянно глядел на мелькавшие в лесу дачи, на внезапно открывшиеся просветы среди сосен, за которыми серебрился залив и светились прерывистой цепочкой дальние огоньки Кронштадта. И перед глазами у него стояло лицо Зои Лапиной, той, давней Зои с Васильевского острова. Вернее, лицо её дочери Тани…
…В блокаду Зоина тётка умерла в январе сорок второго, и Вера Сергеевна, мать Игоря, удочерила девочку. Корнилов хорошо помнил то время. Зоя перебралась к ним в комнату — тёткин труп так и пролежал до весны на кровати, прикрытый зелёным байковым одеялом. Первое время они боялись ходить в «ту» комнату, но пришло, время, и нужда заставила — сначала взяли оттуда стулья, маленький ломберный столик для «буржуйки». Потом стали таскать подшивки старых журналов, книги. Однажды, вытаскивая из письменного стола ящики и вываливая их содержимое прямо на пол, Корнилов увидел небольшой револьвер в тонкой замшевой кобуре. Замша была золотистая и мягкая. Корнилову даже показалось, что она тёплая. Расстегнув перламутровую кнопку и вынув револьвер, он замер от восхищения — тёмный воронёный металл отливал синевой, а ручка была перламутровая и напомнила ему мамин театральный бинокль.
— Оставь! — сказала Зоя. — Это папин. Тётя все время хотела бросить его в Неву — боялась, что когда-нибудь его найдут и нас всех арестуют. И папу тоже.
— Что ж не бросила?
— Жалела. Папе его подарили, когда он работал в Китае. За храбрость.
— И боялась, и жалела! — засмеялся Корнилов и тут же осёкся, обернувшись на зловещий силуэт лежащей на кровати мертвой Зоиной тётки. Он спрятал револьвер в карман и показал Зое кулак: — Чтоб матери ни слова!
Они эвакуировались в июле. Кроме других документов требовалась справка санэпидстанции, и вместе с матерью они пошли в баню на углу Среднего и Пятой линии. Корнилову пришлось идти вместе с Зоей и матерью, — в бане были «мужские» и «женские» дни. Они попали на «женский», а день просрочки мог надолго задержать их отправку. Как ни странно было ему сейчас вспоминать, он совершенно не испытывал тогда ни стеснения, ни стыда! В густом пару, в гулком грохоте цинковых шаек, в гуле голосов у Игоря чуть-чуть кружилась голова не то от слабости, не то от сладкой истомы и блаженства, охватившего его, когда мать нежно водила мочалкой по исхудавшему, почти бесплотному телу. Зоя сидела напротив, безвольно опустив руки. Она намылила свои густые русые волосы, и, наверное, на большее у неё не хватило силы. Она не была такой исхудавшей, как Корнилов — молодая, почти развившаяся девушка с полной грудью. Уже потом, после войны, Игорь Васильевич слышал от одного известного медика, что некоторые люди, умирая от голода, совсем не выглядели как дистрофики…
Несколько лет Корнилова преследовало видение, сопровождаемое звуковыми галлюцинациями: шум бьющей из кранов воды, гулкое эхо женских голосов и нежная, обессиленная девочка с опущенными руками, сидящая напротив него и временами исчезающая — то ли в клубах пара, то ли из-за того, что он сам на секунды терял сознание…
Мать посадила их на Московском вокзале в старенький вагон пригородного поезда, с трудом помогла затащить два больших чемодана и несколько узлов с вещами. Обошла весь вагон в поисках попутчиков, которые помогли бы ребятам перетащить вещи на Ладоге. Но в вагоне сидели одни дети и старики.
— Управляйтесь, ребята, сами, — сказала она, едва сдерживая слёзы. — И друг без друга — никуда. Вместе прочнее. Да и там тоже люди живут — без помощи не оставят. — Она расцеловала их обоих. Шепнула Зое: — Я запросы послала, может, и разыщутся твои родные.
Саму её не отпустили с завода. Предприятие было огромное, каждый человек на учёте.
…Корнилов хорошо помнил, как через неделю пути они остались совсем одни в незнакомом уральском городе. Три дня прожили в детприёмнике, а потом молодой, вечно подмигивающий мужчина, которого все звали дядя Коля — эвакуатор детприёмника, привёз их и ещё десятка три ребятишек на маленькую станцию, откуда надо было ехать на подводах в детский дом, затерянный в глухих пермских лесах. Приехали они на станцию ночью, никаких подвод ещё не прислали, и пришлось ждать в пустом, холодном зале.
Вокруг дяди Коли увивались три довольно взрослых парня. Корнилову шепнул один из таких же, как и он, эвакуированных из Ленинграда ребятишек, что это «урки», уже не раз бегавшие из разных детских домов. И дяде Коле поручили спровадить их в очередной, подальше от станции.
Парни эти вели себя сначала довольно смирно, но потом откуда-то достали самогона и вместе с дядей Колей устроили пирушку. Захмелев, эвакуатор сказал мечтательно:
— Гармонь бы мне сейчас. Сыграл вам, заморыши, согрелись бы сразу.
Зоя, сидевшая рядом с Корниловым, обернулась к нему и шепнула:
— Игорь, у нас же…
Он не успел возразить ей, как Зоя крикнула:
— Дядя Коля, у нас с Игорем аккордеон есть. Поиграйте…
Этот аккордеон был Зоин, но когда мать собирала их в дорогу, не разбирала, что чьё, и складывала вместе вещи, которые потом можно было бы продать или обменять на продукты.
— Давай, девочка, аккордеон, — обрадовался дядя Коля.
Вместе со своими молодыми прихлебателями он подошёл к ребятам. Зоя сдёрнула с футляра сшитый матерью из старого одеяла чехол, расстегнула футляр… Вздох изумления непроизвольно вырвался у всех, кто сгрудился вокруг ребят. В этом холодном, заплёванном зале ожидания будто стало сразу светлее — отделанный розовым перламутром, аккордеон выглядел здесь словно чудо.
— Ну и вещь! — восхищённо прошептал дядя Коля. — За него и взяться-то боязно. — Он осторожно провёл не очень чистой своей ладонью по перламутру, и Корнилову показалось, что в этом месте всё потускнело. «Не видать нам больше аккордеона», — мелькнула у него мысль.
Дядя Коля наконец достал инструмент из футляра, надел ремень на плечо, тихонько развернул мехи. Нежный слабый стон, не успев родиться, утонул в морозном воздухе зала ожидания. Тогда дядя Коля рванул мехи с силой и, приклонив голову к аккордеону, заиграл что-то весёлое, задиристое. Все столпились вокруг. Ожили тусклые ребячьи лица, кто-то уже непроизвольно притопывал ногой, кто-то раскачивался в такт музыке всем телом. А дядя Коля всё играл и играл. Весело подмигивал ребятам, приглашая двигаться, танцевать. Он играл и вальсы, и танго, и какие-то сложные, не известные Корнилову пьесы. И даже так любимый им «Этюд для Элизы», с которого Зоя ещё до войны начинала свой урок музыки. Звуки рояля, на котором она играла, были слышны по всей квартире и всегда вызывали у него лёгкую грусть.
— Что ты муру всякую пилишь? — сказал эвакуатору один из парней. — Врежь что-нибудь нашенское. Чтобы за душу брало.
Дядя Коля понимающе подмигнул и улыбнулся, показав золотой зуб. И как-то сразу, без перехода, заиграл: «С одесского кичмана…», потом «Мурку». Потом заунывную песню про Чеснока и васинских парней.