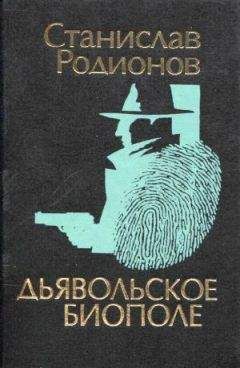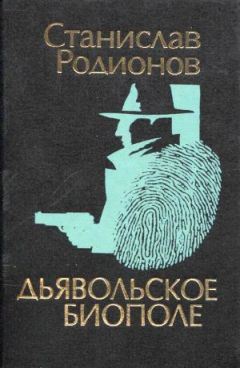– Тоже загадаю тебе психологическую загадку из своей практики, – хмуро пообещал Пикалев. – Муж возвращается с работы, а из дверей его квартиры несет газом. Он позвонил к соседям, от них вызвал газовую службу, «Скорую» и милицию. Ну а потом вошел в квартиру вместе с соседями. Конфорки плиты открыты, жена мертва. Самоубийство путем отравления…
– Муж убил.
– Подожди, у него железное алиби.
– Муж.
– Еще не все: записка предсмертная оставлена.
– И все-таки муж.
– Как догадался? – спросил Пикалев несколько разочарованно от скорого разгадывания психологической загадки.
– Любой нормальный человек, испугавшись за жизнь жены, не к соседям побежит, а в квартиру ворвется.
Разве это загадка? Все можно разгадать, где есть хоть капелька логики. Супружеские пары загадывают истории и посложней. Скажем, борьба годами друг с другом без смысла и цели.
– Кстати, – Пикалев стал рядом, и мне показалось, что от его кителя пахнуло табаком и протоколами, – сообщаю, как любителю психологии… Моя жена познакомилась с крутой бабой, у которой в квартире ходит мебель и живет домовой.
– Как это?
– Вернется в квартиру, а стол переставлен, холодильник передвинут, чайник теплый…
– Надо уголовный розыск подключить.
– Телевидение было; ученые днюют и ночуют.
Где-то я об этой чертовщине слышал. Ученые дали ей загадочное название – полтергейст. А коли есть наукоподобное название, то будет и научное явление. Тогда надо изучать! Вот зови на помощь брошенная старуха и стучи в стенку соседям, название этому явлению не дадут, и телевидение не приедет.
Пикалев задавил окурок, одернул китель, огладил ладонями лысоватую голову и сказал непривычным домашним голосом:
– Старик, сколько лет работаем вместе, а домами не знаемся… Зашел бы как-нибудь, а? С женой, а?
– Можно, – вежливо согласился я.
– Я тебе китайский чай с жасмином заварю…
– Это уже деловой разговор.
В дверь влетела секретарь Веруша, подпорхнула ко мне, как балерина, и дала конверт. Записка от капитана Леденцова, в которой он сообщал, что профессор, ходивший по квартирам, есть гражданин Смиритский… Сколько потребовалось оперативникам времени на розыск – два дня? Лидс хватило мига. Я чуть было не удержался и не рассказал Пикалеву о силе женской интуиции. Впрочем, коли он не признавал наукопричастной психологии, то уж туманную интуицию…
На нем было что-то вроде блузы, носимой художниками и поэтами в давние времена; может быть, только серый цвет делал ее неброской. Там, куда я пришпилил цветок, выглядывал из кармашка треугольничек голубого платка. Снабженец в блузе?
– Мирон Яковлевич, как идет работа?
– Теперь я занимаюсь маркетингом, поскольку наше объединение выходит на экспортную торговлю.
Тогда блуза в самый раз. Как и весь его вид – респектабельного джентльмена с пронзительным взглядом. Впрочем, я смутно представлял, что такое маркетинг и потребуются ли там пронзительные взгляды.
– Поедете за рубеж?
– Весьма возможно.
– Можете встретиться с этой самой супергадалкой Сильвией Папс?
– Не исключено. Правда, она вышла замуж.
– Небось за домового?
– Да, он имеет десятка три фешенебельных домов.
– Случаем, не за того, который напускает порчу?
– Приятно, когда допрос начинается с шуток, – поставил меня на место Смиритский.
Игрив я стал на допросах. Не к добру. А виноват возраст и жизненный опыт. Бывало, допрашивая, я рвался лишь к одной желанной цели – к информации о преступлении. Теперь же я со страхом замечаю, что эта информация – цель допросов – отходит для меня на второй план. Что же на первом? Человек. Как-то в гостях признался, что люблю допрашивать. На меня глянули как на опричника. Сперва я даже не понял этих косых и кривых взглядов, но потом догадался… Под допросом люди понимают только психическое насилие с криками, угрозами и стучанием по столу. Я же все чаще и чаще – наверное, в ущерб следствию – превращаю допросы в интересные беседы. Допустим, Смиритский – преступник. Но что он за человек?
– Мирон Яковлевич, с какой целью вы ходили к умирающим людям? – спросил я, перепрыгнув через логический вопрос, а он ли это ходил.
– На первой нашей встрече я пытался кое-что объяснить…
– Теперь время пришло?
– Не возражаете, если начну с философии?
– Только с нее.
Только с философии и можно начинать допрос о похищении бриллианта, ибо камень этот со значением. Поэтому Смиритский как-то поджал обвислые щеки, сцепил эластичные пальцы, уперся в меня взглядом и стал походить на облысевшего демона.
– Сергей Георгиевич, грань между живой материей и неживой весьма условна. Многие микробы имеют в себе чистые металлы. Есть микробы с цепочками магнетита, которые их ориентируют по силовым линиям земли. Примеров перехода от неживой природы к живой множество. А что есть растения? С одной стороны, они уже живые, а с другой – еще не животные…
– Мирон Яковлевич, вы хотите пересказать теорию эволюции?
– Именно! От неживого к живому, от простейшего к сложному. Я вас спрошу, а где же конечная цель?
– Человек.
– А дальше?
– А дальше еще более разумный и современный человек.
– Ну а дальше, еще дальше?
– Не знаю, и никто не знает.
– Я знаю.
– Мирон Яковлевич, тогда не томите.
– Люди видят эволюцию, идущую на их глазах, и не понимают ее смысла. Но он же очевиден!
– Так в чем же? – начал я раздражаться тягучестью разговора.
– Неживая природа хочет осознать сама себя. Растения, микробы, бабочки, животные, человек – все это попытка природы осознать себя.
Видимо, мое лицо сделалось постным, как выжатый плод. Смиритский это заметил и заговорил скорее.
– В своей попытке природа создала интеллект. Зачем он ей? Если животные без интеллекта живут с природой в согласии, то человек перестал подчиняться природе. Между ним и природой встал интеллект. Человек отчуждается от природы.
– Но природа путем смерти каждый раз забирает его в свое лоно.
– Сергей Георгиевич, вы попали в самую суть. Драма эволюции! И знаете отчего?
– Отчего же?
– Материя стремится к духу.
– И как это она?…
– Материя превращается в дух через живое. Неорганическое, живое, духовное – вот путь. Посмотрите, как стремительно растет народонаселение, которое на земле скоро не уместится и разлетится по Вселенной. Это и есть переход неживой материи через живую к состоянию духа. Через непредставимое время вся материя станет духом. Да-да, все эти звезды и планеты, раскаленные и остывшие, уплотненные и разряженные массы путем множественных усложнений превратятся в иную субстанцию – в духовную. Думаю, этот процесс идет не только на земле.
– Ах, так, – только я и нашелся.
– Тому множество доказательств. Телекинез и телепатия, биополе и гипноз, вещие сны и ясновидение… Кстати, церковь первая об этом догадалась, хотя выразила все крайне наивно, адом и раем. А бог есть всего лишь образовавшаяся часть духовной вселенской субстанции.
– И где же эта субстанция пребывает?
– Во Вселенной достаточно свободного места. Хотя духу места не требуется. Думаю, что он здесь, в нас, везде, в космосе.
Скорее воображением, а не рассудком я оценил красоту его теории. Сперва волны и частицы, потом атомы и молекулы, затем вещества с газами, жидкостями и твердями, к зарождению живого, и дальше, к превращению живого в дух. От элементарно простого к невероятно сложному. Я знал последнее слово науки о пульсирующем строении мира – «большой взрыв», расширение Вселенной, потом вновь сжатие… Теория Смиритского нравилась больше хотя бы уж потому, что я всегда стоял за победу духа.
– Ну и зачем же вы посещали умирающих?
– Сергей Георгиевич, что такое смерть? Это отделение духа от материи, когда он, отделившись, присоединяется к Духу Вселенскому, а тело возвращается в землю. В принципе я изучал переход материи в дух.
– И что вы установили?
– Пока еще говорить преждевременно, но какой-то материал собран.
– Все-таки?
– Например, почему смерть мучительна? Потому что наш дух слишком слаб. Ему не отделиться от породившей его материи. Чем дольше будет существовать человечество, тем легче станет умирать. Потому что дух будет возрастать. Кстати, интеллектуалы умирают легче – мною это бесспорно прослежено.
– Тогда надо умнеть, – вздохнул я.
Смиритский видел, что его теория мне понравилась. Он сидел вальяжно, уже походя не на демона, а на сытого кота, разумеется, сильно облысевшего: щеки опять повисли, свободно, лоб блестел, эластичные пальцы сцепились на коленях, как вареные. Лишь в глазах, где-то очень далеко, темнела вечная тревога.
– К чему вам, лекарю, эта философия и опыты с умирающими?