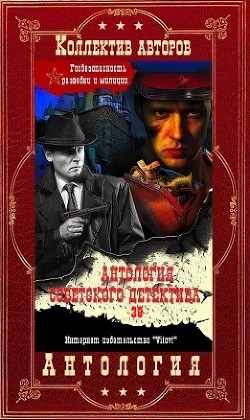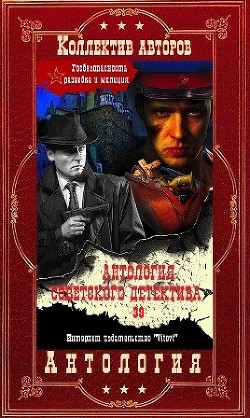— В первый раз мне приходится видеть, что преступники не скрываются, не бегут, а, напротив, лежат без движения…
Он подошел к телефону и соединился с тюрьмой:
— Удалось ли добиться чего-нибудь?
— Очевидно, настоящий преступник — не эта женщина…
— А кто же, по-вашему?!
— Тот, кто ее усыпил…
— Вы думаете, что дело не обошлось без гипнотизера?.. Что же это вы, в кинематографе драму вспомнили, или…
— Я вам повторяю совершенно серьезно: г-жа Гроссми-хель загипнотизирована и, судя по словам горничной, уже больше недели находится под влиянием чьей-то чужой преступной воли.
— Пожалуй, вы правы. Тюремные надзиратели утверждают, что при ней всегда находился какой-то старик…
— Это и есть профессор черной и белой магии… Он и является сообщником Гроссмихеля по побегу.
— Но как же он не боится, что, проснувшись, его жертвы не выдадут его?..
— Он внушил им полное забвение всего происшедшего.
VII. МАСКАРАД
Последние три дня перед побегом Берта не теряла даром. Во-первых, она по мальчишески остригла свои дивные волосы и спрятала их под седым париком.
Чтобы привыкнуть к парику, она совсем не снимала его: даже умывалась и спала в нем. Парик действительно сидел идеально.
Идеально изучила она и грим старости. Интересная бледность и изящная худоба ее лица превращены были в желтизну и истощенность старости.
Она сделала черными, как у татарок, зубы, чтобы не выдали ее молодости и красоты их сверкающие жемчуга.
Она целые дни практиковалась в старческом шамканье, надо привыкнуть настолько, чтобы даже спросонья не заговорить своим голосом.
На молодую женщину в дороге будут заглядываться. А кто польстится на такую безобразную старуху! Будут сторониться, — от старухи всегда сторонятся, от нее пахнет могилой.
Изучая свой грим и костюм в совершенстве, Берта до мелочей обдумала костюмы своих спутников.
Фридрих до тюрьмы носил эспаньолку. В тюрьме отрастил широкую, холеную бороду. Следовательно, у него не должно быть ни эспаньолки, ни бороды. Надо принести все для моментального бритья. У Фридриха слишком много знакомых по клубу, его дело чересчур громко, и за ним, конечно, будут гнаться по пятам. Лицо его надо или целиком забинтовать, или заменить гуммозным пластырем: будто вспыхнула керосинка и его обварила, или любовница серной кислотой облила.
Непременно надо, чтобы от повязки пахло йодоформом; такого весь вагон сторониться будет.
Действительно, мало удовольствия сулила перспектива провести ночь в одном купе с этой парочкой: ведьмой-ста-рухой и ее обезображенным сыном. Два офицера, которым выпала на долю эта честь, дали кондуктору по целковому, чтобы только он их перевел в другое отделение вагона. Зато какой-то еврей в длиннополом лапсердаке и с пейсами — тип, которого в Петрограде и не сыщешь — увидав, что господа офицеры освободили место, с оглядкой вошел в продушенное йодоформом купе:
— He разрешит ли почтенная госпожа… Я вас не обеспокою?..
— Меня-то не обеспокоите… Мне все равно… А вот только вы несчастного сынишку бы не обеспокоили…
Еврей с сокрушением поглядел на мумию:
— Что это?.. Уж не немецкое ли зверство?..
— Да уже лучше было бы, кабы его немцы так отделали… А то ведь стыдно сказать, — с бабой воевал…
— Пхэ…
— Девица одна… приревновала мальца, да серной кислоты ему в лицо и плесни.
Берта умышленно говорила громко и грубо, чтобы весь вагон слышал, что она с евреем только что познакомилась, и чтобы весь вагон знал, какого несчастного везет она с собой.
— Далеко едете?
— До Варшавы. А вы?
— А через почему нет?
— В Петрограде у докторов были… Консилиум…
— Консилиум… Значит, опасно…
Забинтованный почти не шевелился и слабо стонал.
Еврей поудобнее разместился и замолчал.
Поезд двинулся.
VIII. ВТРОЕМ
Берта ликовала. Вся ее комбинация удалась как по нотам. И он, и она спасены! дут на родину!..
Сквозь старушечий грим проступил молодой необузданный восторг.
Только бы отделаться от Таубе. Вон он сидит, одетый и загримированный евреем, и пожирает ее влюбленными ревнивыми глазами.
Пока Фридриха не было, Таубе не знал, что такое ревность. С легким сердцем он увозил его из тюрьмы в своем автомобиле, переодетого в платье Наташи. В автомобиле же, полный благожелательности, он помог ему переодеться в мужской костюм.
Но едва переступил Фридрих порог радиотелепатического института, как у несчастного Таубе оборвалось сердце.
Берта, забыв, что на ней грим и костюм старухи, кинулась на грудь Фридриху и затрепетала, не сдерживая себя от голодной страсти.
Фридрих тоже соскучился по своей возлюбленной, но в этом виде не мог признать своей Берты, не мог вызвать ее очаровательных черт лица и не мог ее поцеловать, так как это испортит грим.
Он нежно отстранил ее от себя, пожал горячо ее руки и заторопился.
— Ну, нечего время терять, бриться, бинтоваться и — на вокзал. Таубе — живо бритву и мыло!
Таубе не привык, чтобы им командовали.
Таубе не думал, чтобы сцена бурной радости, которую не скрыла Берта, так ударит его по нервам..
Острый припадок ненависти охватил его, но он проглотил обиду и беспрекословно стал исполнять приказания человека, который держался, как начальник.
…И вот они едут втроем.
IX. КУЛИСЫ ДУШИ
Берта мечтает о том, как бы отделаться от гипнотизера. Со временем он еще пригодится ей.
А теперь… этот ревнивый взгляд ястреба, который гложет ее и который так не идет к добродушному гриму старого еврея, каким он должен казаться в дороге.
Нет, теперь в гневе, в раздражении, в ненависти к Фридриху, ненависти, которую зажгла ревность… о, теперь Таубе опасен им обоим.
Второй из этих троих пассажиров — Таубе — тоже мечтал о том, как бы отделаться от попутчика Гроссмихеля.
Страсть, придавленная ногой Берты, подняла голову и высунула ядовитое жало змеи.
Он искал уже удобного места, где бы ужалить ненавистного соперника. А, может быть, саму укротительницу.
Фридрих Францевич Гроссмихель, третий пассажир купе, думал тоже о том, как бы отделаться от гипнотизера; он привык работать в полном инкогнито; никто, даже жена не знала, кто он, никто, кроме Берты и ее отца Карла (кстати, где сейчас Карл?). Фридрих сразу понял, что Таубе влюблен в Берту, а это не сулит ничего доброго.
Ревность слепа. В порыве ревности гипнотизер, обладающий их тайнами, может наделать им столько зла, что потом не разделаешься. Никакая тюрьма не страшна гипнотитизеру; силой своих чар он может усыпить бдительность любых тюремщиков. Значит, во что бы то ни стало Таубе надо убить, — это единственный способ отделаться от Таубе.
Труднее отделаться от Берты. А отделаться и от нее надо. Потому что история шпионажа всех народов учит, что все великие шпионы погибали от женщины.
Только до тех пор шпион силен и гибок, пока в его жилах течет холодная кровь благоразумия. До сих пор Фридрих поражал всех хладнокровием, прожив несколько лет с таким очаровательным существом, как Марья Николаевна [485]; и разыгрывая роль любящего мужа, Гроссмихель сумел не полюбить ее. В любой момент, если это полезно для дела, он мог без сожаления оттолкнуть ее и детей, как оттолкнул сейчас. И это не ради Берты. Чары этой головокружительной красавицы, влюбленной в него без ума, также не действовали на этого железного человека настолько, чтобы надломить его железную волю или затемнить его железный ум, стальную логику.
Он умел быть страстным, — но это была лишь поверхностная страсть, — страсть тела, — хмель не касался его души. Берта была для него — утехой воина, потехой воина; Гроссмихель очень ценил ее красоту и привязанность и умел лакомиться ее ласками, как гурман.
Он умел казаться нежным, и Берта была уверена, что он любит ее и ради нее готов на все, хотя и повторял часто: