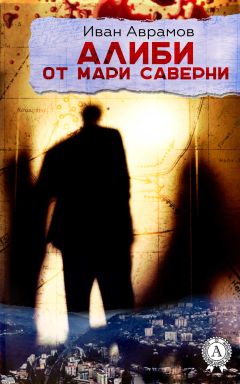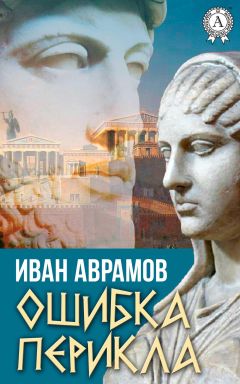— Может, уйдешь?
— Не завидую твоему будущему мужу, Данця, — снова пробормотал Владислав, прекратив поглаживать плечо девушки. Он вдруг рывком приподнялся на локте, навис лицом над ее лицом, и они тотчас сшиблись взглядами — быстро, неотвратимо, как две машины на встречной полосе.
— Почему? — спросила Данка с таким нескрываемым презрением, что ему, человеку, в общем-то, мягкохарактерному, остро захотелось тут же, немедленно хоть чем-то унизить ее, эту призрачную возможность предоставлял секс, где, что ни говори, а первенствовать предстоит мужчине: Владислав всей массой большого мускулистого тела навалился на островок не ведающей ни складок, ни жировых прослоек плоти, коленями властно развел ноги Данки, высвобождая проход в гавань, и вошел туда бурно, таранно, беспощадно, свирепо, скорей всего, и болезненно для Данки — она была для него сейчас кем-то вроде врага в рукопашной схватке, и он орудовал оружием возмездия так, словно это не фаллос, а штык.
Впрочем, наказание, несмотря на некоторые издержки, Дануте, судя по всему, понравилось — отдышавшись, она вполне серьезно спросила:
— Прости, Владек, но я была неправа. Да, я бываю настоящей стервой. Иногда мой язык становится моим злейшим врагом. Теперь понимаю — у тебя что-то случилось. Что именно?
— Вляпался в одну очень плохую историю, — не сразу признался он.
— Какую еще историю?
— Я же сказал — очень плохую! Связанную с…убийством!
— Ты кого-то… убил? — ужаснулась Данута, и в глазах ее промелькнул такой страх, что Владислав понял: ее резкость, жесткость, упрямство — напускные, деланные, девочке просто хочется казаться несколько иной, чем она есть на самом деле.
— Да, я убил человека, — ровно, безучастно ответил Владислав, и это прозвучало намного страшнее, чем если бы он выкрикнул это признание на надрыве, в истерическом беспамятстве, так страшно, что Данка инстинктивно отпрянула назад, сильно стукнувшись затылком о стенку…
* * *
Следующая встреча Лободко с Владиславом Круликовским состоялась, как и было обещано майором, в городской полиции, в кабинете Здислава Кухарчика, который тот любезно предоставил гостю из Киева. Допрос, если честно, ничего не дал. На что-то другое Олег, в принципе, и не надеялся. Кроме того факта, что в жизни Никольского и Круликовского произошел ряд удивительных совпадений (по теории вероятности они вполне могли состояться), никакими конкретными уликами, никакими вещественными доказательствами Лободко не располагал. Это ясно осознавал и молодой Круликовский, который сегодня заметно приободрился, напрочь позабыв о вчерашней растерянности и нервозности: так выглядит шахматист, который испытал несколько неприятных моментов, но теперь знает, что партия у него в кармане. По меньшей мере, ничья обеспечена.
Итак, Владислав начисто отрицал знакомство со Стасом Никольским, никаких встреч с ним ни в Праге, ни в Киеве не было. И нечем было Олегу прижать его к стенке, ну, буквально нечем!
Все же признать свое поражение майор не торопился. Кажется, первая партия действительно завершится вничью, но матч продолжится, вполне возможно, теория шахмат обогатится таким дебютом, как краковский гамбит.
— Не торопитесь праздновать победу, — сказал он на прощание Владиславу. — У меня предчувствие, что мы с вами еще встретимся.
— Предчувствия не всегда оправдываются, — тонко улыбнулся в ответ молодой искусствовед.
Входя вместе с другими пассажирами в автобус, который сейчас отвезет их к трапу самолета, Олег Лободко подумал, что в Кракове он провел несколько дней вовсе не для того, чтобы полюбоваться Мариацким собором, старинными фаэтонами на площади Рынок или отведать знаменитого польского бигоса в недорогой забегаловке. Краков в лице Андрея Феликсовича Круликовского подарил ему версию, связанную со златниками князя Владимира — они, вернее, тайна их клада, вполне могли стать причиной гибели Тимофея Севастьяновича Медовникова. Краков дал реальную зацепку, убедил в мысли, что молодой Круликовский явно причастен к убийству друга отца, потому что совпадение может быть одно, ну, два, но не целый же букет; в том, что Владислав темнит, Лободко нисколечко не сомневался…
Старший лейтенант Солод командировкой своего шефа в сопредельную страну остался доволен, даже очень, ибо считал, что при отсутствии на руках Лободко хоть одного мало-мальски настоящего козыря ему не только удалось не остаться в дураках, а кое-что еще и прикопить. Когда Михаил выразил свою мысль этаким «картежным» образом, Лободко от души расхохотался. Заметив недоумение на лице Солода, развеселился еще больше. Отсмеявшись, пояснил: «Понимаешь, какая закавыка… Я, оценивая свой вояж, вспомнил шахматы, а ты сейчас — карты. Мысль у нас, в общем-то, работает в одном направлении, Миша…»
Пятью днями позднее именно Миша Солод порадовал майора Лободко сообщениями, которые никаких сомнений в пользе его командировки в Краков не оставляли.
— Не зря, Олег Павлович, вы проездили казенные деньги, — интригующе произнес он, столкнувшись с Лободко в коридоре в тот самый момент, когда последний спешил на совещание к полковнику Дровосекову — начальнику убойного отдела, славящемуся нетерпимым отношением даже к малейшим, секундным, так сказать, опозданиям. — У меня две новости. Одна приятная, другая очень приятная.
— Миша, у меня в запасе, — Олег рывком поднес к глазам часы, — лишь две минуты, и я не имею права их разбазарить даже на самую сногсшибательную новость. Я тороплюсь к Дровосекову, понятно? Загляни ко мне минут через сорок.
— Есть! — ответил Солод, испытывая некоторое сожаление, что придется еще потерпеть, прежде чем выложить приятные новости — Михаил принадлежал к той, весьма, к счастью, многочисленной породе людей, которым нравится радовать, именно радовать, а не огорчать себе подобных. И хоть эти отрадные известия, которыми он собирался буквально ошеломить своего начальника, в одинаковой мере касались их обоих, Солод вполне резонно считал, что майор больше, чем он сам или кто-нибудь другой, заслужил право на эту маленькую, производственную, так сказать, радость.
— Ну, выкладывай, ради чего ты готов был уронить меня в глазах Дровосекова, — с легким юмором произнес майор Лободко, едва Михаил возник на пороге его кабинета немым вопросительным знаком.
— С какой новости начинать?
— С приятной.
— Хорошо. Олег Павлович, вчера вернулся из командировки сосед Медовникова Павел Митрофанович Заремба. Он профессор-филолог, старый холостяк, это так, к слову, отсутствовал дома месяц — читал в Риме студентам-славистам лекции по современной украинской литературе.
— И что же такого ценного сообщил тебе Павел Митрофанович? — с изрядной долей скептицизма спросил Лободко, который наполовину еще пребывал на совещании, которое Дровосеков превратил в ужасающую головомойку — криминал в столице правит бал, убийства сыплются, как из зловещего рога изобилия, а сыщики хлопают ушами, как ослы. Досталось на орехи всем, в том числе и Лободко — за грозящее стать «глухарем» дело об убийстве краеведа, о чем он сейчас и поведал своему подчиненному.
— Дровосеков еще не знает, что вы недаром съездили в Краков, — улыбнулся Солод, но, заметив гримасу неудовольствия на лице начальника, заторопился сжато, без витийства выложить информацию: — Олег Павлович, я показал Зарембе снимки Никольского и Круликовского. Он твердо заявил, что видел их вдвоем 13 декабря в третьем часу пополудни в холле, или в коридоре — как угодно, первого этажа. Павел Митрофанович выходил из лифта, спеша на такси, которое заказал на Борисполь, а эти двое садились в лифт, чтобы подняться наверх. Заремба хорошо запомнил обоих — Круликовский бросился ему в глаза благородной внешностью, неким врожденным, как он выразился, аристократизмом. Ну, а Никольский запечатлелся у него в памяти по принципу контраста: эдакий, сказал он, недокурок с хитрой лисьей мордочкой.
— Стас этот и впрямь похож на лисенка, — согласился Лободко. — Не на матерого лиса, а, это уж точно, на лисенка. А я в нем уловил что-то то ли от хорька, то ли от тушканчика. Или суслика… Миша, твоя информация укрепляет в мысли, что не такие уж мы с тобой и дураки. Дата совпадает: Круликовский рассказывал мне, что он навестил Медовникова как раз 13 декабря. Только он солгал, сказав, что с ним никого не было.
— Заремба, кстати, дал письменные показания, — заметил Солод. — Ни за что, говорит, не стал бы свидетельствовать, если бы стопроцентно не был уверен, что в тот день видел именно Круликовского и Никольского. Олег Павлович, это вот, — он потряс перед собой двумя листами бумаги, исписанными крупным красивым почерком, козырь серьезный. Как туз в покере. Если вы еще раз полетите в Краков, то молодой Круликовский уже не отвертится. Эти бумажки пригвоздят его, как вилы змею.