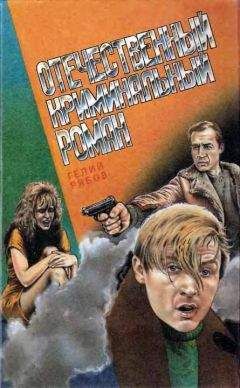— А чего ее весть? — удивился второй, щелкая затвором винтовки. — На месте и кончить. С громким объявлением — кто и за что.
Ноги подогнулись, и померкло в глазах. Серебряные трубы поют, эх, папа, папа… Ты очень ошибся, меня сейчас убьют…
Бросилась бежать. Юбка длинная, узкая — куда тут… Заплетаются ноги, сейчас громыхнет — и пойду туда, куда всегда верила, что должна прийти…
Оглянулась: стреляйте в лицо. Разве можно бежать, когда страшно? И когда так пусто, ненужно, бессмысленно…
— Мой отец — большевик! И убит белыми в Екатеринбурге! За что, товарищи?
— Деникин тебе товарищ!
И вдруг…
Откуда он взялся? В кожаной куртке, фуражке, подбритые усики — похож на того, что арестовал отца и Веру.
— Внимание, товарищи! Что происходит?.
— Поймали царскую дочь, Марию Николаевну!
— У вас есть документы? — Это ко мне.
Протянула:
— Извольте…
— Вот! Дочь присяжного поверенного Пермской судебной палаты Надежда Юрьевна Руднева. Расходитесь, товарищи. Поезд сейчас отойдет. (Разбрелись. Руднева Надя им не интересна.)
— А ты — кто? Ты-то сам — кто такой?
Господи, снова те двое. Он — резко, грубо — бумагу, сложенную вчетверо, к их глазам: «Представитель Всероссийского Центрального исполнительного комитета». — «А-аа… Тоды — ладно». Ушли. Взглянул, улыбнулся: «Честь имею». И тоже ушел.
Боже мой, невозможно. Эти «тоды» курят, вон — в десяти шагах зыркают ненавистными глазами.
Господи, куда он девался? «Подождите!»
Остановился, вопросительно смотрит.
— Вы не можете! Вы… не смеете… бросить меня здесь. Они же убьют меня!
— Вы преувеличиваете… — повернулся, снова уходит. Господи, в конце концов я же не жениха за фалды хватаю, они же, эти призванные по зову трубы, застрелят меня не задумываясь.
— Стойте! Я с вами! Мне все равно, я боюсь!
Святая правда. Я первый раз в жизни успела испугаться насмерть.
— Я еду в Арск. — Смотрит… С насмешкой, что ли?
— Мне все равно. — Мне на самом деле совершенно все равно куда. Только бы отсюда…
— Прошу… — пропустил. Пошел чуть сзади и сбоку — с правой стороны. Ведь это — что-то означает. Что-то очень важное… Ладно, потом.
Спустились по лестнице, вышли на площадь, здесь митинговали — красные что-то сдали, белые — что-то взяли, революция в опасности, подошли к крестьянским телегам — их десятка полтора, возчики прислушивались к оратору, что-то обсуждали, в моем мозгу только одна мысль: скорее отсюда. Как можно дальше.
— В Арск? — это — возчику.
— Садитесь. Барышня с вами?
Оглядел с сомнением:
— Со мной. — Перевел взгляд. — А ведь вы правы, пожалуй…
Почувствовала — падаю: те двое, с перрона:
— Недоверие у нас. Давай бумагу. Сумлеваемся, значит.
Улыбнулся, рукой в карман:
— Грамотные?
Переглянулись:
— Здесь, в станции, — ЧК, пойдем — и чтоб к общему удовольствию. И ее, — повел рукой, — с собой возьмем.
— Ну, зачем же мы будем юную девушку таскать взад-вперед? Один пойдет со мной, второй покараулит до нашего возвращения. Согласны?
Согласились. Коротышка ушел, бородатый остался и, выплюнув окурок, начал старательно слюнявить новую завертку. В гимназии так делал сторож — видела многажды… Возница запахнул полы рванины (армяк? пальто?): «А эслив твой не вернется? Я, поди, двинусь?» — «Я те двинусь, — бородатый сверкнул глазом. — Не сдвинешься потом…»
Дальнейшее — в считанные мгновения: человек в мятой шляпе попросил прикурить, неуловимо повел рукой, бородатый (с тихим хрипом) навалился на телегу. «Ты, сирый, нишкни, а вы, барышня, пребывайте в покое. Сейчас вернется Алексей Александрович — и с Богом, ага?..» Шинель бородатого набухла красным, глаза остекленели, мне стало еще страшней. Возница все пытался что-то сказать и только громко икал. «Заткнись», — посоветовал мятый, в это время подошел «Алексей Александрович», улыбнулся: «Вас никто больше не обеспокоит, можете продолжать ваш путь. Вы ведь, кажется, в Петроград?» — «Я… не поеду». — «Что же?» — «С… вами». — «Как вам будет угодно», — посмотрел весело, с каким-то глубоко спрятанным смыслом — я почувствовала именно так. Выехали с площади, сразу же пошли деревянные скудные домики, потом поля. «Мятый» молча сбросил убитого. «Надо бы… того? — вмешался возница. — Мы здесь, значит, каждый день, почитай, ездим, что подумают, — на кого?» — «А на тебя. — Мятый показал желтые зубы. — Под микитки и — в дамки. А?» — «Ну все? Нашутился? — перебил Алексей Александрович. — Оттащи во-он в те кусты». Мятый беспрекословно поволок. «Меня зовут Алексеем Александровичем. К нему… (Мятый уже возвращался, стряхивая руки)… следует обращаться „Петр“. Без отчества. Ваше имя я знаю. Будем считать, что знакомство состоялось. Значит, вы дочь „красного“… Любопытно…» — Глаза у него смеялись. «Да. Отец большевик. Его арестовали. И сестру». — «Похожа на вас?» — «Да, очень, говорят, мы на одно лицо. Только она старше на четыре года». — «Значит, ей двадцать два… Как и Ольге». — «Это ваша… жена? Или невеста?» — «Угадали». Смех в глазах сразу пропал, такие глаза иногда бывали у отца — тоскливые, пустые… «Вы еще не раздумали? Не хотите нас… покинуть?» Перехватила взгляд «Петра». Свинцовые, плюмбум.[11] «Я останусь с вами».
Кто они? Не знаю… Они не красные; наверное, и не белые. Просто люди из прошлой жизни. Их несет ветром революции. И меня тоже несет этот ветер. Я ничего не знаю о судьбе отца и сестры. Мне почему-то кажется, что они живы, но когда я задаю себе вопрос: а если расстреляли? — сразу хочется плакать, и сразу грустная-грустная мысль (она впервые пришла мне в голову в день маминых похорон): а зачем? Слезы никого не вернут, ничего не изменят. Отец рассказывал, что в Румянцевском музее в Москве служит библиотекарем некто Федоров. Он утверждает: если весь мир, весь, без единого исключения — постепенно или сразу (это лучше) станет искренне, истово чтить своих умерших предков, станет заботиться об их могилах — начнется дело всеобщего воскрешения и через какое-то время мертвые воскреснут, а живые никогда больше не умрут. Это не следы скорби. Это — дело человеческое, это удивительная мечта, и невозможно представить, что было бы, если бы люди захотели… Но они не захотят. Никогда. И в этом их гибель, их смерть — рано или поздно. Отца и сестру арестовали, как же — отец и сестра большевики. Меня пытались убить, потому что я напомнила им дочь Николая Второго. Я не могу не увидеть здесь различия: одни преследуют политических противников, другие — ненавистный призрак.
Но ведь это средневековье. Это погоня за ведьмами и духами. Это ведет в никуда…
Отец часто говорил: народ задавлен. Бос. Сер. Спился. В этом виноваты толстосумы и проклятая романовская шайка. Десятилетия потребуются, чтобы восстановить нравственный и духовный облик русских и иных, населяющих Российскую империю. И если после революции народ расправится со своими угнетателями — это только малая толика пролитых слез и крови отольется власть имущим.
И я спрашивала: «А зачем проливаться крови? Этого нельзя допустить». И отец отвечал: «Этого нельзя не допустить. Всплеск мщения и возмездия — справедлив, его не остановит никто».
И получается, что большевики заранее утверждали свое бессилие. Или еще хуже — согласие на кровь. Но ведь тот, кто проливает кровь во имя кары и возмездия, — тот прольет ее и во время химеры.
Мягко ступает лошадь, телегу потряхивает, они молчат, отвернувшись, и я тоже думаю о своем. Что такое судьба? Это то, что сложилось и получилось в итоге прожитой жизни? Или то, что предстоит прожить, что предназначено безжалостным, нечеловеческим провидением, которое тащит нас одному ему ведомыми тропами, и жизнь складывается в слова: «судьба» или «не судьба»? Это несправедливо, конечно, но Вера и отец всегда утверждали, что в той жизни, за которую мы боремся, человек будет сам выстраивать свою судьбу — в интересах своих и общества, а мне это казалось пустой фразой, — было в этих словах что-то от хрустального маниловского моста, а они обижались. Вера однажды топнула и закричала: «В кого ты такая? В нашем роду не было графов и князей. Откуда в тебе этот снобизм, высокомерие это?» И я поняла, что спорить они и не умеют, и не хотят. «Неужели у тебя не дрогнет сердце и не оборвется, когда читаешь ты у Радищева: „Я взглянул окрест себя, и душа моя страданиями человеческими уязвлена стала“?» Я молча открываю Пушкина — «Путешествие из Москвы в Петербург» — на том месте, где говорит сам Радищев: баба пошла сажать в печь хлебы. Прав Пушкин — странная нищета… «Тогда зачем ты помогаешь нам?» — «Наверное, потому, что вы мои близкие и я должна вам верить». — «Чаще бывай на ВИЗе, среди рабочих, ты увидишь каторжный труд истомленных людей, невозможную жизнь». Они правы: ВИЗ — дымный, черный, грязный, зловещий. Радости в лицах нет, глаза в точку, молчаливы. Как у Горького: угрюмые, испуганные тараканы…