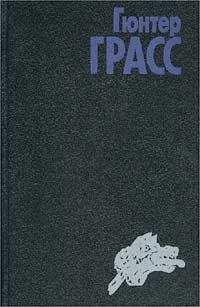Вообще-то, при увольнении требуется проходить медкомиссию — полное врачебное освидетельствование. Но генеральское указание уволить Туру быстро, видимо, согласованное в самых высоких сферах, действовало неукоснительно.
Сам главный врач поликлиники УВД уже ждал его, с рук на руки передал главной сестре вместе с тоненькой, не толще обычной школьной тетрадки — Тура ни разу серьезно не болел, не брал больничных листов — историей болезни.
Главная сестра усадила Туру на кушетку, предложила чаю:
— Вы сидите, а я все сделаю…
Тура от чая отказался, оглядывался по сторонам, принюхивался к едкому, чистому запаху лекарств. На стене висел рисованный плакат Санпросвета о необходимости своевременно лечить зубы. На первой картинке был изображен толстомордый мужик, веселящийся от всей души. Эта фаза его жизни пояснялась стихами:
Ефим зубных врачей не посещал,
Зуб разрушался, а Ефим не знал.
На следующей картинке Ефим сидел с несчастным перевязанным лицом.
Зуб злополучный вскоре заболел,
А он и тут лечиться не хотел.
На третьей картинке Ефима неожиданно понесли на носилках санитары:
Боль зуба даром не прошла,
На сердце осложнение дала!
Когда главная сестра появилась с конвертом, который Тура должен был сдать в кадры, он сказал ей:
— Видимо, зуб разрушался, а я не знал…
— У вас зуб болит? — огорченно спросила она.
— Нет-нет, это я просто так…
В финотделе для него уже был приготовлен расчет — зарплата с 20 июня по 2 июля, компенсация за неиспользованный отпуск в прошлом году, за отпуск в нынешнем, выходное пособие — всего 832 рубля 46 копеек. Тура расписался в ведомости, кассирша придвинула к нему деньги, обандероленные пачки мелких купюр — рубли, трешки, пятерки. Тура задумчиво смотрел на эти пачечки, прикидывая, куда их рассовать. Кассирша не поняла его:
— Нет-нет, не сомневайтесь, Тура Халматович, — здесь все правильно — это деньги московской упаковки…
Перед тем как сдать удостоверение и превратиться в «постороннего», которому вход в управление разрешен только по разовому пропуску с паспортом, Тура зашел к себе.
Кабинет был открыт. За столом сидел его новый хозяин — тяжелый, сонно-каменного вида Гапуров. Сбоку, у окна, с рапортами стоял Какаджан Непесов.
— Заходите, Тура Халматович, садитесь, — гостеприимно пригласил Равшан. Оттого, что он косил, нельзя было понять, на кого он смотрит — на Туру или Какаджана, по-прежнему стоящего в произвольной стойке — средней между «вольно» и «смирно». — Как поживаете? Как настроение?
— Все в порядке. Новости есть?
— Не без этого. В Дилькушо ферма загорелась — трех овец то ли украли, то ли они сгорели. В Урчашме подросток ранил себя самодельной гранатой…
Равшан откинулся удобнее, примостился ловчее — он словно всю жизнь сидел в кресле Халматова. Какаджан стоял — он был знаком смены власти, указанием на отношение нового начальника отдела к его, Туры, ученикам. Намеком на будущие кадровые изменения — Тура уже знал, что Равшан ни одного из них не оставит.
— Работы много. Да и зама нет… — с тяжелым вздохом сказал Равшан. — Ну, ничего! Нам бы сейчас выкрутиться из этой истории, со временем все наладится…
Безликое «зам», под которым подразумевался убитый Кореец, резануло Туру по сердцу. Впрочем, он и не ждал от Чингизида душевной мягкости.
— Ну ладно, я пошел. С сейфом потом разберемся, — ему не захотелось больше здесь находиться. — Желаю удачи…
— Спасибо. Всегда заходите, Тура Халматович…
Проститься с каждым сотрудником розыска, как предполагал Халматов вначале, и чему он придавал, наверное, преувеличенную важность и значение, не удалось. Как всегда, большая часть оперативных работников была в разгоне, а оставшиеся отвечали на срочные звонки, звонили сами, что-то запрашивали, требовали. У них уже с утра был загнанный вид. Тура почувствовал себя неловко, как человек, выпавший из общего дела и мешающий всем своей очевидной ненужностью и естественной праздностью.
— Хоп, — он попрощался со всеми сразу. — Увидимся!
А все-таки не удержался, сказал Алишеру:
— Надо во что бы то ни стало найти оружие. Пистолет он наверняка выбросил. А если вы узнаете, где Сабирджон купил коньяк, вы можете узнать, откуда он приехал в «Чиройли». С кем мог видеться по дороге. Ладно, — в конце поставил любимое: — Худо холоса.[5]
Тура больше не обернулся. И так знал хорошо — кто они ему и кто он им.
«Будто все во сне, — подумал он. — не верится».
Подходя к отделу кадров, он мысленно пожелал, чтобы полковника Назраткулова не оказалось на месте.
А бумаги уже все были подписаны. Инспектор-кадровик был человеком в Мубеке новым, Тура против него ничего не имел.
— Удостоверение с вами? — спросил кадровик.
Халматов достал из верхнего кармана пиджака красную книжечку, ту самую, которую так берег столько лет, из-за которой иногда вскакивал ночью — на месте? Цела? Протянул кадровику:
— Пожалуйста…
Кадровик спрятал удостоверение в конверт, подшитый к личному делу Туры.
— А это вам, — он передал Халматову военный билет вместе с трудовой книжкой и пенсионным удостоверением, потом встал и сказал церемониальным голосом: — И еще… Надо бы, я понимаю, провести это в зале, в торжественной обстановке. Но вы знаете, там готовятся к панихиде. Личный состав занят, не до торжеств. Поэтому я прошу вас зайти на минуту в канцелярию. Женщины заварили чай. Нам еще надо кое-что вам вручить…
«Ухожу в неприличной спешке», — подумал Тура.
— Хотели что-нибудь сказать? — спросил кадровик.
— Нет, ничего, — быстро, почти испуганно ответил Тура. И подумал: «Меня принимали в милицию полгода, а выгнали за два часа!»
Кадровик улыбнулся, сочувствующе-вежливо уступил дорогу, довольный собой, повел Халматова к дверям.
К полудню Тура был уже ветераном, ушедшим на заслуженный отдых, обладателем японского хронометра «Ориент», купленного на средства коллег — по указанию Назраткулова — из фонда конфискованных вещей, подлежащих реализации через торговую сеть.
Памятный адрес Назраткулова ему решили не вручать.
Тура спустился в вестибюль. Остановился около светящегося аквариума, заглянул в его зеленую мелкую мутную бездну. Немо уставились ему в глаза ненормально яркие рыбы. Потом лениво разбрелись по закоулкам своего вяло бурлящего царства. Наверно, они поняли, что это не Эргашев. А с уволенным Турой не о чем было молча разговаривать.
Неслышно подошел к нему хромой Халяф, постоял рядом тихо и стал ссыпать через стеклянный борт корм. Отряхнул ладони и протянул руку лодочкой Туре:
— Будьте счастливы!
Впервые! За все годы! Будто дожидался, когда Тура перестанет быть начальником. А может, ждал, пока Халматов станет обычным человеком? Кто его знает — он ведь очень странный тип, этот хромой Халяф. Урод, фигура в управлении неприкосновенная.
Говорили, множество лет назад Отец республики, Великий Сын Мубека во время очередного приезда на родину высадил после тяжелого обеда из-за руля шофера-охранника и сам погнал по улице бронированный лимузин. Еще не были построены развязки, и на повороте в кишлак, недалеко от старой школы — одной из первых еще туземных школ, построенных в этих краях, поддел он хромированным бампером плотника Халяфа — тот летел метров тридцать, все кости переломал. Выжил. Но стал хромым и странным.
И Эргашев, наверное, посоветовавшись с рыбами, решил вопрос ко всеобщему удовольствию — взял хромого Халяфа в управление, дал звание старшины милиции и приставил к аквариуму — пасти и холить тропических рыб.
Не забывал и Отец-Сын-Вдохновитель хромого Халяфа. В каждый приезд спрашивал:
— Как там этот чудак, что бросился мне под колеса?
Эргашев отвечал:
— Такой бравый служака стал — не узнать!
Халяф гордился формой, ценил должность, безмерно любил Эргашева и ни с кем ни о чем никогда не разговаривал…
— …Будьте счастливы!.. — за долгие годы впервые услышал Тура надтреснутый сиплый голос Халяфа.
В тазу лежало несколько пиалушек, здесь мыли посуду. Старые заварные чайники чернели жестяными протезами, заменявшими отбитые «носики». В неудобном закутке с ковром во всю боковую стену стоял унылый парень — помощник Сувона.
Чайхана, побеленная изнутри мелом, была похожа на фельдшерский пункт.
Сувона видно не было, спрашивать его Тура не хотел, но ковер висел на месте. Большего Халматову не требовалось.
— Лепешки есть?
Юнец цокнул языком.
— А хлеб?
— Хлеб есть. Вчерашний.
Помещение было полно мух, с металлическим звоном бились они в пыльные стекла. Сама по себе популярность чайханы Сувона для многих оставалась загадкой. Обычно сюда ходили шоферы-»дальнобойщики», «короли дороги». Вечерами здесь было не протолкнуться, пили не только чай. Толковали о резине, о перевалах, о ценах на ранние фрукты, овощи и горючее. Иногда голоса спорящих достигали критической черты, накал спора приобретал багрово-фиолетовый цвет, назревала драка, от нетерпения дрожали ножи. Тогда из кухни появлялся Сувон, поднимал отсутствующие глаза — страсти увядали, крики прекращались. Все шло своим чередом. Никто не слышал, чтобы Сувон произнес несколько связных предложений. В этом и не было необходимости. Поглядев на чайханщика, каждый сразу понимал, что он должен делать, и всегда понимал правильно. Никто не видел, чтобы Сувон кого-то ударил. Но, видно, этого и не требовалось.