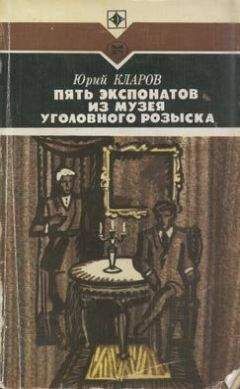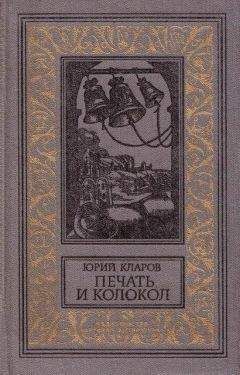Между тем д’Аршиак переговорил с Дантесом и предложил перенести тяжелораненого в карету.
Пушкин — в карете своего врага. Как можно? Данзас хотел сделать отрицательный жест рукой, но д’Аршиак остановил его.
— Я понимаю, как вам и господину Пушкину неприятно воспользоваться каретой господина Геккерена. И все-таки не следует принимать поспешных решений.
Что верно, то верно, подумал Константин Карлович, разве он имеет право поддаваться сейчас неприязни, когда от него, возможно, зависит жизнь Пушкина. В конце концов плевать ему и на Дантеса и на Геккерена. Он должен думать о Пушкине, и только о нём. Это его святой долг.
— Барон чувствует себя не совсем плохо — пустяк! — а господин Пушкин очень плох, — сказал д’Аршиак по-русски, тщательно подбирая слова. В его голосе было сочувствие, и Данзас подумал, что француз, наверное, добрый малый. — Не все ли равно, кому принадлежит эта карета? Главное — что она к вашим услугам, господин Данзас. В ней вдвоем не тесно. Она на упругих рессорах, и господин Пушкин не будет чувствовать толчков. У господина Пушкина сильное кровотечение. Он может истечь кровью. Ему необходим срочно доктор. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно.
— Я правильно вас понял, господин виконт.
— Итак?
— С благодарностью принимаю ваше любезное предложение.
— Вот и отлично!
— Но одно непременное условие…
— Какое же?
Данзас посмотрел в сторону Пушкина, который, закрыв глаза, сгорбившись сидел в санях, и сказал:
— Пушкин ни в коем случае не должен знать, чья это карета.
— Разумеется, — кивнул д’Аршиак. — Я понимаю, насколько господину Пушкину это было бы неприятно. Но учтите, что на дверцах кареты герб барона Геккерена. Господин Пушкин может обратить внимание на герб.
— Я постараюсь, чтоб он его не заметил.
— Ну что ж, тогда дело за вами, — сказал д’Аршиак и отошел к Дантесу.
Данзас сказал Пушкину, что отыскал карету.
— А чья она?
— Наёмная, — со спокойной совестью солгал Константин Карлович. — Тебе в ней будет покойнее. Согласен?
— Пожалуй.
У Пушкина было серое осунувшееся лицо. Глаза лихорадочно блестели.
«Совсем плох», — подумал Данзас.
Дверца кареты была предварительно распахнута, и Пушкин герба не заметил. Несмотря на уговоры Данзаса, он перешел в карету сам, Константин Карлович только поддерживал его под локоть. Сейчас он совсем не походил на тяжелораненого.
«Дай бог, дай бог!» — незаметно перекрестился Константин Карлович.
В карете было темно и уютно, пахло кожей и какими-то старыми, давно вышедшими из моды духами. Пушкин втянул ноздрями воздух. Нет, он не ошибся. Точно такими же духами пахло некогда в рабочей корзине бабушки, Марьи Алексеевны Ганнибал. В корзине бабушки маленький Саша прятался от гнева матери и докучливых гувернёров. Здесь его уже никто не тревожил. Это была волшебная корзина. И, уже будучи взрослым, поэт часто жалел, что у него больше никогда не будет подобного убежища, где можно было бы укрыться от светского злословия, клеветы, интриг, кредиторов, пасквилянтов, сплетников и лицемерного покровительства первого жандарма России — Николая…
Увы, волшебная корзина исчезла из его жизни вместе с детством и бабушкой!
Пушкин смертельно устал от тех усилий, которые потребовались, чтобы самостоятельно перейти в карету. В изнеможении прижавшись спиной к мягким подушкам, он тихо сказал:
— Как хорошо!
— Тебе удобно?
— Да… как в бабушкиной корзине.
Константин Карлович не понял, но переспрашивать не стал.
— Чья это карета, Данзас?
— Наемная, — повторил Константин Карлович.
Немец-кучер взмахнул бичом, и карета плавно тронулась с места.
Рессоры скрадывали толчки, и боль, которая еще несколько минут назад, поднимаясь от живота вверх, раскаленным клинком пронзала всё тело, постепенно стихла, а затем и вовсе исчезла. Только по-прежнему кружилась голова, и во всём теле ощущалась непривычная слабость.
Данзас протянул руку, чтобы задернуть на окне шторку, но Пушкин остановил его. Он хотел видеть вечерний Петербург, город, который он всю свою жизнь так сильно любил и ненавидел. Кто знает, быть может, он проезжает по его улицам в последний раз.
Карета въехала на Аптекарский остров и покатила по прямому, как палка капрала, и нескончаемо длинному Каменноостровскому проспекту. Чугунные обледенелые тумбы, поставленные здесь еще в царствование Екатерины II; вытянувшиеся в стройные шеренги, словно солдаты на вахтпараде, фонарные столбы и посаженные через равные интервалы, строго по ранжиру, сиротливые деревья.
У моста через Карповку кучер придержал лошадей. Из будки в косую полосу выглянул толстый заспанный будочник в тулупе и с алебардой, с завыванием протяжно зевнул и поднял скрипучий шлагбаум. У этого полицейского были маленькие глазки и мясистый бесформенный нос.
Петр I считал полицию становым хребтом государства. Петербургская полиция следила при нем за печами и трубами, за соблюдением правил застройки, укреплением берегов рек и каналов, за уборкой нечистот домовладельцами, за состоянием рынков и одеждой продавцов. Мало того. По его указу полиция должна была обеспечивать «добрые порядки и нравоучения», «рождать каждого к трудам и промыслу принуждать, юных в целомудренной чистоте и честных науках воспитывать, излишек в домовых расходах запрещать». Указ царя безоговорочно утверждал, что полиция — это «душа гражданства».
Полицейский опустил шлагбаум, почесался под тулупом и скрылся в своей будке. «Душа гражданства» пошла досыпать. Любезное дело.
Карета въехала на Петербургский остров. Здесь по приказу Петра I были возведены «образцовые мазанки». Такие мазанки, начиная с 1712 года, под страхом наказания предписывалось строить всем «недостаточным» петербуржцам. Петр мечтал уподобить свой «парадиз» любезному его сердцу Амстердаму. «Если бог продлит жизнь и здравие, — говорил он, — Петербург будет другой Амстердам».
Амстердам был городом каналов — и в Петербурге тоже рыли каналы, которые за ненадобностью были засыпаны к середине восемнадцатого века. Амстердам был городом каменных домов — и в Петербург свозили камень со всех концов необъятной России. Но камня всё равно не хватало, и Петр запретил строительство каменных домов в Москве. Каждому жителю Петербурга было предписано сдать сто камней для мощения улиц.
Царь добился своего: Петербург стал первым каменным городом Российской империи. Одетый в камень город прямых линий… Каменные дома, каменные набережные, каменные лица солдат и жандармов. И сам преобразователь России вместе со своим «любезным другом Катеринушкой» теперь тоже был укрыт камнем. Его останки покоились на каменном ложе под каменной плитой в храме Петра и Павла.
В окнах кареты проплывали серые, похожие один на другой дома, лавки, где продавались калачи и сбитни, облинявшие вывески портных и сапожников. Неподалеку от извозчичьей биржи на углу Каменноостровского проспекта и Архиерейской улицы над дверью трехэтажного доходного дома красовалось изображение покрытой мыльной пеной физиономии — «Стригут, бреют и кровь отворяют».
Пушкина лихорадило. Непослушными, онемелыми пальцами он застегнул шубу, попытался натянуть перчатки. Левая наделась легко, а правая за что-то зацепилась и никак не налезала на пальцы.
Перстень…
Этому перстню поэт посвятил два стихотворения. Первое было им написано в 1825 году, в тяжкие дни михайловской ссылки.
Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи —
Храни меня, мой талисман.
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман…
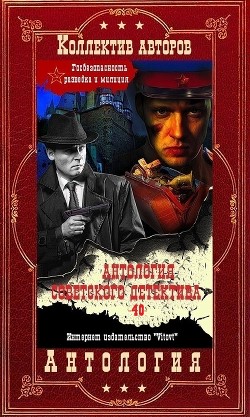

![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)