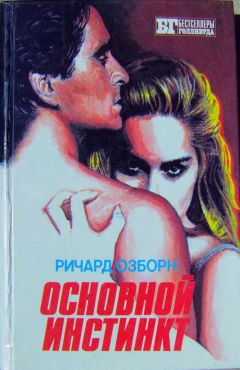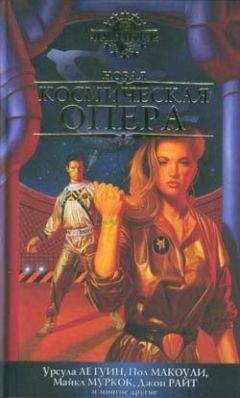Затем свет погас, и он мысленно представил её в гордом одиночестве, направляющуюся в чистую постель.
Через час, вернувшись в Сан-Франциско, он включил компьютерный терминал в тёмной и пустынной комнате детективов. Его пальцы прыгали по клавишам. Он напечатал: «Хейзл Добкинз, женщина, белая, Милл-Вэли, Элбьен-авеню, 145», затем нажал кнопку «ВВОД» и стал ждать, когда огромный электронный мозг выдаст ему результаты.
Сначала компьютер пробежал по файлам памяти департамента полиции Сан-Франциско и доложил: «НПНЗ» — полицейское сокращение слов «ни в чём предосудительном не замечена».
— Вот дерьмо, — выругался Ник и спокойно вздохнул, так как такой ответ не был для него неожиданным. Хейзл Добкинз выглядела как типичная, любящая кошечек и пекущая пирожки бабуля. Шанс, что её счастливый билет будет зарегистрирован, был невелик, если, конечно, это не происходило с ней раньше.
Машина ожидала следующей команды Ника. «Что за чёрт!» — произнёс Карран вслух и набрал код по розыску архивных материалов о преступлениях, совершённых на всей протяжённости штата Калифорния — от Юкии до самой Баджи. Он снова ввёл данные о Хейзл Добкинз, подождал и получил то, что ожидал. Компьютер мгновенно высветил на мониторе: «Добкинз, Хейзл. П: ничего существенного». Конечно же, «ничего существенного»… Другими словами: чиста.
Компьютер будто подумал над своим поведением и выдал на экран новую порцию информации. Ник почувствовал некое удовлетворение, когда прочёл данные: «Добкинз, Хейзл. П: Освобождена из Сан-Квентина[9] 7 июля 1965 года».
— Ну вот. Попалась, Хейзл, — прошептал он.
Он быстро набрал коды, позволявшие получить информацию об арестах, и тут же её получил: «Обвинена по 4 пунктам, массовое убийство, июль 1955 г… суд — 10–11 января 1956 г. — ПВ — Верховный суд Сан-Франциско».
— По четырём пунктам обвинения, — прошептал Ник. Он прикоснулся к буквам «ПВ» — «признан виновным» — на мониторе, будто до сих пор не веря своим глазам.
— Ты не нашёл ничего лучшего, как прийти сюда и пытать эту проклятую машину? — раздался голос за его единой.
Карран не отводил от экрана глаз.
— А что ты здесь делаешь, ковбой?
В соседнее с Ником Карраном кресло нырнул Гас Моран.
— Я пришёл сюда за тем же, что и ты, — изводить эту проклятую махину, сынок. За тем же, что и ты. — Он легко взял напарника за плечо. — Великие умы, а, Никки?
Карран попытался оторвать свои будто приклеенные к экрану глаза:
— Что ты накопал в Беркли, Гас?
— Познакомился е разными профессионалами в деле принудительного законодательства и поглазел на студенточек. О, там есть ещё несколько очень привлекательных девчушек. Ник.
— Забудь об этом. Гас. Они слишком хороши для тебя.
— Ага, но там есть ещё огромное множество более дряхлых мужиков, которые, как ты знаешь, преподают им.
— Что ты выяснил?
— Я всё разузнал об одном мёртвом профессоре психологии. Ноа Голдштейн. Умер от многочисленных ранений в сентябре 1977 года. И догадываешься, что?..
— Что? Она прикончила его?
— Не могу этого доказать, сынок, но они были знакомы. Доктор Ноа Голдштейн был академическим советником молодой Кэтрин Трамелл.
— Она входила в число подозреваемых?
— Неа. Нет, сэр. Они даже не брали показаний у мисс Кэтрин Трамелл. У них не было подозреваемых. Ни у кого не было зуба против доктора Голдштейна. Никто не был арестован. Вообще ничего. Дело до сих пор открыто… вот такая удача. Так что, напарничек, есть только холодные следы.
— Это дело может быть связано с убийством Джонни Боза?
Гас вытянул шею и уставился на информацию, высвеченную на экране компьютера.
— Ба, Бог ты мой! Хейзл Добкинз!!! А мы-то с тобой беседуем о холодных следах. — Он жалостливо посмотрел на Ника и покачал головой. — Огромное спасибо, сынок. Я ничего не слышал о Хейзл вот уже многие годы.
— Ты знаешь её? — Гас фыркнул: — Знаешь её? А то! Я не мог вышвырнуть её из своей головы долгие годы. Прекрасная маленькая домохозяйка… три маленьких ребёнка… замечательный муж, который не ходил по сторонам. Никаких финансовых проблем. Никаких признаков умственного расстройства. Ничего.
— И?
— И в один прекрасный день малышка Хейзл просы пается, выходит на свежий воздух, смотрит на чистое голубое небо, и ей приходит в голову прикончить их всех. Понимаешь, всех! Она воспользовалась…
— Ножом для колки льда?
— Опустись на землю, сынок. Она воспользовалась разделочным ножом, полученным в подарок на свадьбу. Первым прикончила муженька. Разделала его, как индейку ко Дню Благодарения. Потом угробила троих своих детишек. Когда она закончила свою работу, всё вокруг напоминало бойню.
— О, Боже!
— Иисус не прикладывал к этому делу своей руки, Никки. Когда Хейзл вырезала всю семью, то вызвала полицию, и та обнаружила её сидящей в жилой комнате с ножом в объятиях. Ничего не отрицала, никаких признаков безумия. Вообще ничего.
— Но почему? Почему она это сделала?
Гас Моран пожал плечами:
— В том-то и вся заковыка, Ник. Никто этого не знает. Ни один психоаналитик не смог найти атому объяснений. И только Богу это известно; сама всё Хейзл растолковать этого не в состояний. Она сказала, что не знает, почему.
— Невероятно.
— Конечно. Ты ведь тоже не можешь объяснить, какого чёрта ты тут делаешь, выпытывая из машины данные о Хейзл?
Ник быстро рассказал о своей слежке за Кэтрин Трамелл и о её контакте с Хейзл Добкинз.
— Чёрт возьми, — вздохнул Гас Моран, — с неплохими людьми она водит дружбу.
На следующий день, сразу после полудня, Ник Карран вновь появился у её пляжного домика. Кэтрин Трамелл, ответившая на его звонок в дверь, была одета в крохотное плотно облегающее чёрное платьице. Ткань обтягивала её тело как вторая кожа, прекрасно оттеняя золотистые волосы и глубокие голубые глаза.
— Привет, — просто сказала она.
— Я не очень побеспокоил тебя?
— Да нет.
— Конечно, это был глупый вопрос. Ведь ничто на свете не может тебя обеспокоить?
— Почему ты не заходишь?
Она шире открыла дверь и прошла внутрь дома, приглашая его последовать за собой. Ник Карран направился за ней следом, не спуская глаз с того, как под платьем двигаются её тугие, крепкие ягодицы.
В комнате всё было точно так же, как и в прошлый раз, когда он сюда наведывался. Все, кроме одной детали — количество газетных вырезок на столике увеличилось и переросло в полную медиа-историю тернистой карьеры Ника Каррана, детектива департамента полиции Сан-Франциска Она взяла со стола одну из вырезок, взглянула на неё и продемонстрировала ему. «ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТ ДЕЛО КОПА-УБИЙЦЫ» — гласил заголовок.
— Я использую тебя в своём детективе.
— Твоём детективе?
— В моём детективе, в моей книге. Надеюсь, что тебе это безразлично. Тебе ведь это, правда, безразлично?
— Ха, будто есть какая-нибудь разница, безразлично мне или нет. Разве я не прав?
Она улыбнулась и ушла от вопроса так же, как боксёр уходит от серии ударов.
— Хочешь выпить? Я как раз собиралась немного вылить.
— Нет, спасибо.
Она кивнула самой себе:
— Так и есть, я совсем позабыла. Ты ведь отказался от всех своих привычек. Ни шотландского виски, ни «Джека Даньелза». Ни сигарет, ни наркотиков… — Кэтрин улыбнулась ему через плечо, — …ни секса?
Она не стала дожидаться ответа и прошла к бару — набор бутылок с различным содержимым стоял на куске мрамора, там же, в пустой раковине, находился осколок льда.
— Я хотел бы задать тебе несколько вопросов, — тихо сказал Ник,
Она взяла в руки нож для колки льда и принялась обтёсывать глыбу.
— У меня тоже есть несколько вопросов к тебе.
— Неужели?
Она колотила по глыбе, которая под её ударами тут же эакрошилась, и осколки разлетались во все стороны.
— Это для моей книги.
— У тебя есть что-нибудь против кусков льда?
— Мне нравятся неотёсанные края.
Она продолжала колотить по глыбе, раскалывая её на мелкие кусочки. Она поднимала руку вновь и вновь, снова опускала её вниз, вкладывая в каждый удар всю свою силу.
Теперь она уже закончила со льдом, отложила в сторону нож для его колки, кинула в стакан горсть ледяных кубиков и залила их «Джеком Даньелзом».
— Скажи мне, Ник, какие чувства испытывает человек, убивший другого человека, — спросила она тем же тоном, каким один домовладелец спрашивает другого: «Слушай, а что ты делаешь, чтобы избавиться от ненужной травы?»
— Какие чувства?.. А почему ты не оценишь их сама?
— Они мне неизвестны. Зато ты их знаешь. Что ты чувствовал? Могущество? Скорбь? Усталость? Бодрость? Или смесь всех этих эмоций? Или же что-то другое? Что-то, чего ты никогда не можешь испытать, прежде чем не убьёшь другого человека?
До его лицу пробежала гримаса отвращения — и к ней, и к самому себе.