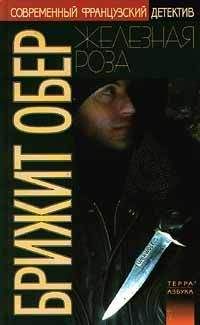Поглаживаю письменный стол — то сверху, то снизу, очень люблю дерево. Открываю бювар, провожу пальцем по розовой промокашке, на которой отпечатались совсем свежие следы нескольких строчек (интересно, сочтут ли люди мое повествование красивым, если когда–нибудь прочтут его?), приглядываюсь к ним: мне нравится читать отпечатавшиеся на промокашках слова — будто расшифровываешь секретное послание.
Могу сказать, что на сей раз надежды мои оправдались. Всего несколько строк: «…но теперь это будет твоя». Конец письма. Его письма. Он тщательно промокнул его перед тем, как отнести наверх. Пока днем все без дела болтались по дому, он явился сюда и спокойненько занялся своей писаниной.
А я, конечно же, не помню, чтобы кто–то из них сюда заходил.
И это не все. Когда я это увидела, то принялась обыскивать письменный стол. Был такой момент, когда на лестнице мне послышался какой–то звук, я испугалась, вытащила револьвер — ничего.
Настороженно прислушиваясь, я боялась услышать какой–нибудь вздох, чье–то дыхание, потому что ступеньки могут, конечно, трещать сами по себе, но уж никак не дышать. А тут — ровным счетом ничего. Тогда я возобновила поиски. До самого локтя засунула руку под стол (такое я видела в кино про шпионов), и — сработало! Рука наткнулась на что–то плоское и твердое. Вытащила. Какая–то брошюрка. Черная с красным обрезом. Как молитвенник. Хорошенькая. Она была приклеена скотчем к днищу стола.
Я открыла ее. Это оказалось не брошюркой. Это оказалось чудовищно.
Серия набросков. Там было лицо маленькой девочки, потом — чем–то знакомого мне мальчика, потом — других девчонок, потом — Карен и, наконец, Шэрон и мое.
С застывшими улыбками. Превосходно нарисованные. Только глаза на всех лицах были выколоты — по–настоящему выколоты, так что сквозь глазницы каждого из них на вас смотрит тот, кто внизу.
Я — последняя. Под мои пустые глазницы подложена красная промокашка. Я улыбаюсь, и глаза у меня красные. Через каждое лицо (а их десяток) наискось проходит отпечаток — тоже красный, ярко–красный, словно след руки, погладившей каждого из них по щеке; но если присмотреться повнимательнее, то становится ясно, что это не рука, а нечто иссохшее, когтистое — отпечаток самой смерти.
Смерть наложила отпечаток на мое лицо — ни у кого больше не может быть такой руки, как эта: с тремя длинными костлявыми пальцами, которые пытаются дотянуться до моего рта.
Внезапно я поняла, отчего лицо мальчика мне было знакомо: это их лицо! Я сразу же призадумалась над тем, что нигде нет фотографий, на которых они были бы сняты маленькими. В доме можно найти лишь те, на которых им уже по крайней мере лет двенадцать.
Что здесь творится? Прилепила блокнот на место липкой лентой — надеюсь, не отвалится; все еще дрожу, да так, что револьвер в кармане стучит по бедру; кто–то в этом доме играет с мертвецами и всякими связанными со смертью штуками, — кто–то, кто, впадая в слабоумие, теряет всякое подобие человеческого образа.
8. МАНЕВРЫ
Дневник Джини
Как только они уехали, я поднялась наверх и прочитала это. «…Дьявол?» Как будто знал, что я найду в письменном столе. Никогда такой чепухе не верила и теперь не собираюсь. Он мне пыль в глаза пускает, только и всего, — пыль в глаза, а если мне мерещатся чудовища там, где нет ничего, кроме проявлений больного рассудка, то это из–за бренди.
Да он просто–напросто услышал, как я брожу по дому, и подумал, что я вполне могла наткнуться на его «молитвенник», — вот и написал все это про дьявола, чтобы произвести на меня впечатление. Он действует как иллюзионист. Всегда делает совсем не то, что показывает. Отвлекает внимание на что–то другое. Всякими трюками, дешевыми эстрадными штучками отвлекает внимание от своего лица, а оно тем временем у всех на виду! Но по утрам–то рассудок у меня ясный, не затуманенный алкоголем, и я вполне способна разумно мыслить, месье!
На его послании я написала: «Почему ты боялся Шэрон? Почему вообще ты боишься женщин?» И все это обвела жирной чертой. Пусть возненавидит меня. Посмотрим, сможет ли он после этого улыбаться мне, сидя за столом. Я заставлю его выдать себя. Изведу такими вот штучками.
А вдруг это правда? Вдруг и в самом деле кто–то здесь занимается черной магией? Может, он действительно считает себя дьяволом? Надо пойти в деревню поискать что–нибудь про это. Если он верит в то, что одержим дьяволом, то, может, поверит и в заклинание против злых духов. То есть что я хочу сказать: если я ему внушу, что изгоняю из него духов, то он, может быть, придет в себя, потому что, конечно же, никакой он не дьявол — такое невозможно.
Сейчас попрошу доктора подбросить меня в деревню за рождественскими подарками.
Дневник убийцы
Она в деревне… Ты в деревне. Роешься. Ищешь. Вынюхиваешь. Зря. Ничего ты не найдешь. Я — недосягаем. Я знаю, что ты видела Книгу. Ты посмела заглянуть в нее. И так осквернила мой дорогой дневничок… Святотатство! Безбожница! Ты громоздишь одно кощунство на другое! Еще не поняла, что я здесь — Хозяин? Хозяин! Шэрон тоже этого не понимала. Бедняжка Шарон… Я — хозяин, а вы — мои игрушки. И ты смеешь смотреть мне в лицо, когда все простираются ниц у моих ног? Того и гляди, мир перевернется.
Я вынужден был порвать оскверненные тобой листочки: они стали гадкими, от них воняло — ясно? — воняло страхом, запахом тех, других — так пахло в тот момент, когда до них доходило наконец, отвратительно пахло; ты носишь в себе этот мерзкий запах, он ждет лишь подходящего случая, чтобы вырваться наружу, пройти сквозь кожу, расползтись вокруг; мерзкий запах, его запирают в ящик и закапывают в яму — только тогда можно спокойно дышать нам, живущим. Мне плохо, плохо, я не хочу, чтобы ты существовала, не хочу с тобой больше играть, не хочу!
Никто не помешает мне делать это снова и снова. Еще и еще. Сколько захочу. Я скажу тебе — когда. И где. И ты ничего не сможешь сделать. Потому что я — Хозяин.
Дневник Джини
А ты не мог бы продолжить рассказ о вашей семье, вместо того чтобы распространяться о собственной персоне? Это было бы поинтереснее. К примеру, похороны твоего брата — они, наверное, были значительным событием…
Дневник убийцы
Опять эти мерзости на моих листочках… Что на тебя нашло — спятила, что ли? Чего ты добиваешься? Хочешь вывести меня из себя, разозлить, заставить в припадке гнева разоблачить себя… дураком меня считаешь? А может быть, дорогая Джини — обладательница чистого сердца, — ты полагаешь, что я способен вдруг вылететь из–за стола с воплем: «Но в конце концов, Джини, до каких пор вы будете осквернять мой интимный дневник?»
Размечталась ты, Джини… Думаешь, если я, имея на то все основания, выхожу из себя, значит, не умею властвовать собой? Думаешь, тебе удастся вывести меня из равновесия, прожужжав мне все уши этим недоделанным Заком? Слишком ты поспешна в суждениях. Смотри, как я спокоен. Как хорошо я разгадываю твои намерения… С самого начала разгадываю. Даже позволил тебе найти Книгу. Я знал, что ты будешь довольна, обнаружив ее. К тому же тебе есть теперь чем заняться.
Ну попытайся же хоть изредка видеть чуть дальше собственного носа… О! Сдаюсь: ты в конце концов — всего лишь жалкое существо, и вряд ли я чем–то смогу тебе помочь!
Дневник Джини
Так, значит, беседовать с кем–то ему все–таки интереснее, чем нести свою всегдашнюю чушь. Еще бы! Восемнадцать лет молчать о том, какой распрекрасный псих в тебе сидит! Если бы меня не было, ему пришлось бы выдумать меня! Впрочем, как раз так и получилась эта мерзость — его дневник: нужно было кому–то или чему–то все поведать, вот он и выдумал его…
Вчера в деревне я купила книжку о колдовстве и еще одну — с заклинаниями. Забавно, что в таком городишке, как этот, подобные вещи кому–то нужны… «У меня постоянные клиенты», — с таинственным видом сказал тот тип, что их продает.
Все внимательно изучила: колдовские заклинания, виды одержимости, и пятое, и десятое; чувствую — уже козлиные ноги, того и гляди, отрастут!
Во всяком случае, нашла вполне подходящее великолепное заклинание против бесов — особо ужасных и с трудом поддающихся изгнанию. Нужно что–нибудь придумать, чтобы преподнести его как–нибудь поудачнее. И не стоит пороть горячку.
Я не написала ему ничего. Только изрезала в вермишель все его листочки. Не смогла удержаться — слишком хочется шею ему свернуть. А теперь немножко страшно. Постараюсь спать как можно меньше.
Дневник убийцы
Ненавижу тебя.
Ты уничтожила мое произведение — мои слова, мой голос, ты их изуродовала и разнесла на части своими острыми ножницами: чик–чик–чик — их лезвия вонзаются в мою плоть, мою бумажную плоть; ты как те сумасшедшие бабы по телевизору — маньячка, вот ты кто, маньячка, отвратительная старая маньячка, и я тебя ненавижу.
Нужно бы мне… Нет, этого ты не прочитаешь. Тем не менее нужно бы. Время бежит, а ты жиреешь за наш счет.