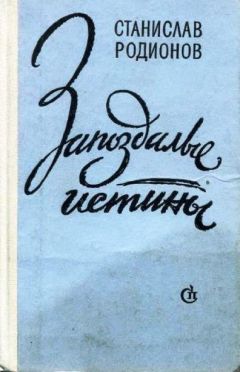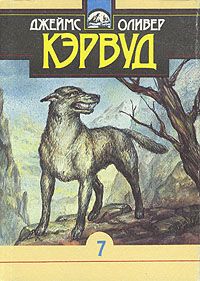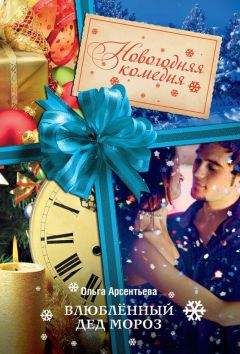— У каждого, Серёга, всяк свой камень есть. Моему корешу Витьке Начхедину этот алмаз, верно, счастье принёс. Грёб он его ковшами и, стало быть, осчастливился.
— Старатель, что ли?
— Зачем? Экскаваторщиком вкалывал на Севере. Ну, и прикололи ему на костюм из чистой шерсти Золотую Звезду.
— Степан Степаныч, а ваш камень какой?
Рабочий остервенело долбанул пестом кусок гнейса:
— А мой камень, Серёга, есть кирпич, тюкнувший мою судьбу в самое темечко.
— Кирпич на голову, что ли, упал?
— Не кирпич, Серёга, на голову упал, а я головой на кирпич. Шёл и споткнулся, поскольку был аванс. Белая палата, доктора в очках, на прежнюю работу меня не допустили. И вот я перед тобой налицо, долблю каменюги в этой ведьминой ступе…
Рябинину показалось, что в Машиной палатке произошло какое-то движение. Он сорвался с места, обуреваемый нетерпением поговорить об алмазах, любви и счастье. Если каждый человек приписан к своему камню, то его камень тот, который у Маши. Алмаз. Или топаз.
Обычно Рябинин не стучал в колышек, а скрёбся по брезенту. И слышал ответное и звонкое: «Входи, Серёжа!». Он поскрёбся. Ему не ответили. Он похлопал ладонью по натянутому до звона тенту, как по хорошему барабану. Или ему почудилось звонкое «Входи, Серёжа!», или какая-то интуитивная сила, она же дьявольская, подняла его руку и чуть раздвинула полог…
В широкую мужскую спину, обтянутую белой рубашкой, долькой золота вжалась загорелая узкая Машина ладошка. Её волосы воздушно пали на мужскую шею. Запрокинутое в поцелуе лицо неузнаваемо изменилось…
Рябинин прикрыл глаза от резанувшей боли, словно в них брызнула электросварка. Он опустил полог и ринулся к реке. И бежал по берегу, расшвыривая кедами гальку. Куда бежал? К людям, за помощью. В лагере беда. Ему хотелось крикнуть на всю тайгу…
Он зацепился за морёную корягу и рухнул на песок. Боль в ушибленных коленях его отрезвила. Зачем он бежит? Ему же всё показалось. Того, что он видел, быть не могло… Разыгралось воспалённое зноем воображение. Он тоже упал на кирпич, как и Степан Степаныч…
Рябинин быстро вернулся в лагерь. Нервными шагами дошёл он до её палатки и открыл полог. Там никого не было. Показалось, ему всё показалось. Любой бы психолог объяснил рябининское видение научно: он думал о сопернике, представлял его, в маршруты ходит без шапки, темечко напекло — вот и мерзкая галлюцинация. Подобные случаи известны. Виделись оазисы в пустыне, корабли в морях и «летающие тарелки» на небесах…
Он сильно втянул в себя воздух — пахло табачным дымом. Тут курили. Но курящих в лагере только двое — Степан Степаныч и водитель грузовика. А белые рубашки по вечерам надевал только один человек — пижонистый водитель.
Рябинин пьяно добрёл до своей палатки и упал лицом в спальный мешок. Какая-то незнакомая ему боль омертвила тело и спружинилась в груди, готовая вырваться наружу. Слезами ли, криком ли… Он застонал. И тут же услышал шорох у входа. Рябинин стремительно сел.
На фоне раскрашенного вечернего неба стояла Маша. Он не видел её лица, закрытого сумерками палатки, — только контур фигуры.
— Серёжа, книгу прочёл? — фальшиво спросила она.
— Алмазы приносят несчастья, — нашлись у него силы на ответ.
— Не всегда…
— Я ненавижу этот камень, — хотел он крикнуть, но лишь выдохнул слова жарким шёпотом.
— Серёжа, он мой муж.
— Как муж?
— Об этом никто не знает, кроме начальника партии.
— Зачем муж? То есть, почему муж?
— Дочке уже три года…
Вот теперь Рябинин испугался; теперь он понял, почему она правду выдавливала мучительными порциями. Её подозревают в краже четырёхтысячного бриллианта…
Кабинет заволок ранний зимний сумрак. В нём её лицо белело мучнисто и ждуще. Рябинину надо было что-то сказать, но слова он заменил движением встал, включил настольную лампу и задёрнул портьеру на окне.
Топаз изменился — сейчас бы Рябинин не признал его за тот, за свой. В нём потухло робкое мерцанье, которое, может быть, хранило свет звёздных глубин вселенной. Добавилось желтизны, словно предполагаемый далёкий лимон недопустимо придвинулся. Грани заблестели весело, опереточно… И Рябинин догадался, что он впервые видит свой топаз при электрическом освещении. А вдруг признание Жанны исказило его кристаллическую решётку?
— Сергей Георгиевич, вы молчите? — тревожно спросила она.
— Мне вновь нужно спрашивать?
— Вы сами сказали, что доказательств нет…
— Если нет, то их будут искать.
— Но их же нет.
— Жанна, доказательств может не быть только в одном случае.
— В каком?
— Если не было преступления.
— Вы мне не верите?
— В чём? — зачем-то прикинулся он непонятливым.
Что я не брала этого бриллианта…
— Я должен верить.
Заметила ли Жанна, что он не ответил на её вопрос, не сказал «я верю»? Заметила. В свете матового абажура её лицо побелело ещё больше — Рябинину казалось, что эта белизна перешла на волосы и они примучнились равномерной сединой.
— Начнём всё с нуля, — устало сказал он. — Рассказывайте…
Жанна скованно шевельнулась, будто предстояла непривычная ей физическая работа:
— Я шла по улице… Из легкового автомобиля меня окликнула женщина. Не знала, как попасть к центральной сберкассе. Мне было по пути… Я и подсела. У сберкассы вышла. Вот и всё. А у женщины пропал перстень, лежал в сумочке на заднем сиденье…
Испуг отпустил Рябинина — бриллианты так не хранят. Он мог куда-нибудь закатиться, мог выпасть из машины на колдобине, мог попасть в руки любого случайного попутчика, мог быть потерян ещё дома… Совет он дал правильный «после этого» не значит «вследствие этого». Какая-то пустячная история, не стоившая внимания.
— Подробнее, Жанна.
— Опять подробнее…
Это «опять» резануло по его успокоенности — ведь опять она отделалась почти десятисловным каркасом, как в придуманной истории с мужем.
— Женщина средних лет, в шубке из каракуля, симпатичная…
— Сколько времени вы ехали?
— Минут двадцать…
— О чём говорили?
— О пустяках. О рынке, об универмаге…
О пустяках. Он тоже спрашивал о пустяках, когда был главный вопрос, который давно бы стоило задать:
— Жанна, а кто вас подозревает?
— Как кто? Эта женщина.
— И всё?
— А кому ж ещё подозревать?
— Ну и как она заподозрила?
— Я уже прошла квартала два… Вдруг догоняет, да ещё с сигналом, как с сиреной. И понесла, и понесла…
— А милиция?
— Был какой-то паренёк…
— Из милиции?
— Я не спросила.
— Что делал этот паренёк?
— Записал её глупости, потом мои слова… Попросил разрешения глянуть в мои карманы и в сумочку. Разумеется, ничего не нашёл. Ну, и чао.
— Почему же вы переживаете?
— Эта дура звонит мне и требует вернуть бриллиант.
— Как она узнала телефон?
— Я же говорила молодому человеку свой адрес…
— Вас никуда не вызывали?
— Пока нет, — медленно проговорила она, словно сомневаясь в этом.
Рябинин неимоверно устал, как будто весь день шёл по ровному болоту, и зыбкий дёрн дрожал под ногами до самого горизонта; устал не оттого, что шёл, а от нудной одинаковости и отсутствия хоть чего-то твёрдого, надёжного камня, палки, земляного бугра… Он вздохнул и придвинул к себе телефон. И пока набирал номер, Жанна тревожно спрашивала глазами, губами, щеками — куда он звонит?
— Здравствуй, Вадим. Ты один?
— Привет, Сергей. Ну, не один, но говорить могу.
— Я скоренько… Не поступало ли каких заявлений о бриллиантах?
— У меня на столе лежит материал о краже бриллианта у гражданки Лалаян.
— Глухой?
— Нет, стянула одна модерновая инженерша-криогенщица.
Рябинин молчал, не спуская глаз с её ушей, которые, как ему казалось, подрагивали от желания услышать инспектора с того конца провода; эти нежно дрожащие мочки с прилипшими к ним серьгами-жемчужинками загипнотизировали его, словно теперь всё дело было в них.
— Где ты? — окликнул инспектор.
— Вадим, а доказательства есть?
— Инженерша кражу отрицает, бриллианта у неё не нашли. Но вот что говорит Лалаян… Села эта девица в машину и таким хищным оком глянула на палец потерпевшей, что та почему-то испугалась, сняла кольцо и спрятала в сумку. А когда попутчицу высадила и полезла в сумку, то кольца не было.
— Что будешь делать с материалом?
— Возбудим уголовное дело и передадим в следственный отдел. А что случилось?
— Потом расскажу. Спасибо.
Рябинин положил трубку.
— Теперь вы знаете всё, — негромко сказала она.
— А всё ли знаешь ты? Теперь ведь ты подследственная…
— Знаю, что я не воровка.
— Жанна, — просительно заговорил Рябинин, — чтобы моя совесть была спокойна… Чтобы я смог что-то сделать… Я должен быть уверен в одном…