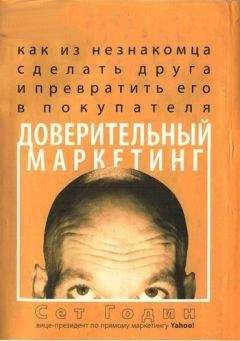Кирьян Кизьяков. ХХ век. Сороковые годы
Отец вернулся с фронта весной сорок третьего года, демобилизованный по ранению. Был ранний светлый вечер, розовые тени выстилали отроги таежных сопок, мычали коровы, бредущие с пастбища под ленивые матюги пастуха в домашние сараи, и вдруг хлопнула калитка; выглянувшая в оконце мать потерянно прищурилась, затем всплеснула руками и – стремглав выскочила из избы. А после донесся ее радостно-обморочный вскрик.
И вошел в горницу человек с костылем, отбросил костыль, сделал неуклюжий, с выворотом ступни, шаг вперед, взял его, Кирьяна, на руки, прижал к себе. И запомнились ему, пятилетнему, металлические, со звездами, пуговицы на его гимнастерке, густые светлые усы, упруго и нежно ткнувшиеся в щеку, и потертая пилотка с рыжей подпалиной. Человек шел к дому через перелесок из молодого ельника, и пахло от него хвоей и солнцем, но исподволь шли от одежды его и другие, тревожные, запахи: йода, горького дыма, ваксы… А вот от руки его – твердой, но осторожно ласковой, исходил словно бы дух старого дерева, как от киота, хранившего в своей серебряной глубине венчальную икону покойной бабки.
– Отец, отец воротился! – причитала мать. – Вот же, спас нас Бог, оберег от беды!
Потом, уже ночью, он проснулся, увидев в мутном и теплом свете керосиновой лампы мать и отца, сидевших за столом за поздней трапезой, с лицами усталыми, но счастливыми и спокойными, и отец говорил:
– Ничего, заживет нога, тайга дело подправит, да и с того лета трав небось насушила, обойдется… Главное – корову не отобрали, козы на месте, проживем… С молоком-то не пропадем! Ружье на чердаке? Ну, значит, и лось будет, и кабан, и косуля… А завтра сети переберу, рыбки икряной добудем, май на пороге… Поднимем пацана, один он у нас, все – в нем…
Отец – молчаливый, нелюдимый, жесткий на слово, выносливый и мощный, как матерый секач, никогда не повышал голоса ни на жену, ни на сына, хотя за ребячье озорство хлесткий ремень полагался неотвратимо. Он научил Кирьяна многим таежным премудростям: охоте, рыбалке, ремеслам. Учил счету и азбуке, что заменяло школу – ближайшая находилась в сорока верстах, каждый день не находишься. Мать переживала: «Неучем останется, хоть бы к кому его в райцентре приткнуть, чтобы за парту сел…». Но отец отвечал:
– Не глупее меня будет… Что сам знаю, ему передам. А к чужому дому не допущу. Все!
Не был отец жаден, в помощи никому не отказывал, и любая хозяйственная мелочь, любой инструмент всегда имелись у него под рукой. А уж как он отбивал косы, выделывал меха и солил рыбу! Как мог зимой по нескольку суток обретаться в тайге, ничуть не смущаясь ни мороза, ни зверя. И как знал все травы, почвы и горные породы!
Со своими родителями пришел он сюда издалека, как и мать, считаясь погорельцем, но об истории своего переселения родители говорить не любили, роняли скупые слова о погибшем в огне поселении, и лица их при этом одинаково мрачнели и замыкались. И ничего толком не знал о роде своем Кирьян, полагая, что, когда придет срок, обо всем и поведает ему отец, а покуда пустым вопросам не место.
Деревню составляли два десятка домов, отстроенных более века назад разными переселенцами, хозяйства были крепкими, но война сделала свое дело: более половины мужиков полегли на фронтах, бабы, с трудом тянувшие огороды, скотину и ребятню, перебирались в города, и вскоре половина хат стояли заколоченными, скрываясь в вездесущем бурьяне.
А вот отцу свезло: нашел работу. Открылась неподалеку от деревни зона, понаехало машин и народу: солдат и зэков. Появились столбы, потянулась вдоль них колючая проволока, выросли бараки, сторожевые вышки и лесозаготовительные склады. Отца как инвалида войны и героя взяли завхозом – должность немалая, да и сытная. Дали коня – чтобы ловчее до службы из дома добираться. А конь в хозяйстве крестьянском – царь. И плуг ему – товарищ, и борона – подруга.
Распахал отец с Кирьяном целый луг у реки, и уже через год вся деревня осталась на зиму с запасами, никто без картошки не бедствовал, а мать не успевала набивать подпол соленьями и маринадами.
Сытная пошла жизнь, безмятежная, хотя спал теперь Кирьян мало, работы по хозяйству было хоть отбавляй, и ждал он с нетерпением зимы – времени сладкого, сонного, многими развлечениями наполненного. И на охоту в тайгу с отцом можно сходить или просто на лыжах, а то и на рыбалку зимнюю, и со сверстниками деревенскими тайком к загадочной и страшной зоне пробраться, поглазеть, содрогаясь от невольной жути, на иной мир, по неведомым законам живущий: на суровых солдат с автоматами и мрачную смерзшуюся толпу зеков в ватниках – вероятно, убийц и злодеев… И лица у зеков были одинаковые – угрюмые, серые, а глаза – как у дохлых ершей: остановившиеся в безжизненном отрешении…
А вечером, лежа на матраце ватном на печи, с черным хрустким сухарем и куском каменного рафинада, можно было читать удивительные книги, которые приносил отец. И две из них были любимыми, чуть ли не наизусть заученными: «Остров сокровищ» и «Робинзон Крузо».
Стонала тайга за окном от мороза, трещали бревна дома, голубели узоры инея на окнах, а он был далеко – в синих морях, на знойных островах с зелеными пальмами, среди благородных эсквайров и ловких пиратов, ничуть не похожих на своих собратьев – злодеев из лагеря, скукоженных и безликих.
Возвращались в деревню уцелевшие на войне мужики – двужильные, тертые, просмоленные дымом фронтовых пожарищ. Они отличались от выдержанного в словах и приверженного к порядку отца: грубые, пьющие, неряшливые, изъясняющиеся матом. Грязные комья этих слов царапали душу Кирьяна, отвергающую их бесстыдную и циничную суть.
В новой жизни отца, как отдаленно он понимал, было много тайн. Вдруг зачастили к ним в дом странные гости. Все явно из города, да из далекого, чужедальнего. Все с подарками, доселе невиданными. Отрезы материи, рубахи цветастые для него и отца, ботинки американские, консервы с иностранными этикетками – их он собирал и хранил, любуясь диковинной пестротой букв, рисунков и проникаясь загадочностью тех стран, из которых они чудом переместились сюда, в затерянную деревеньку.
Разные по возрасту и говору, гости были схожи между собой вкрадчивостью манер, нервными вежливыми смешками, значительным немногословием и быстрыми оценивающими взорами. Приходили они поздно, окольно, вечеряли с отцом в баньке, а утром растворялись бесследно, словно привиделись Кирьяну во сне. Но однажды услышал он из-под двери разговор отца и матери, выговаривавшей умоляюще, через слезы:
– Окстись! С кем связался! Они ж такие ж воры, как за проволокой сидят! Они ж не за «так» им помогают! А ты для них дурень деревенский, принеси-отнеси! А коли побег учинить соберутся, да от тебя подмоги попросят?! Всех нас под каторгу подведешь!
– Деньги нужны, мать… – басил виновато отец. – И не на баловство какое, а на сына… Всю жизнь у меня за хребтом не просидит, моргнуть не успеем, а ему уже в большую жизнь уходить…
– А он и двух классов не прошел!
– Помогут мне с бумагами, обещали. Вроде как начальную школу закончил. А там, глядишь, в городе его пристроим.
– Да кто поможет-то в том?! Разбойники твои?!
– А кто ж еще? Министр образования, что ль, документ за красивые глаза выпишет?
– Ой, уморишь ты нас…
– Молчи, тарахтелка… Знаю, что говорю! Ты меня еще за советскую бесовскую власть поагитируй!
– Ой, батюшка, что ж ты несешь-то? Вот же язык неугомонный! Услышит кто – сам за проволоку пойдешь, и нас за собой потянешь! Вон, глянь газеты, всюду шпионов и измену выискивают, а раньше, вспомни, и вовсе план у уполномоченных был по врагам народа… А не исполнишь плана, самого под гребенку!
– Так они-то враги и есть. А народ – мы.
– Ох…
– А за меня не бойся. Я тебя и сынка под опалу не подведу. Знаю, что делаю. И мазурики эти вот у меня где, в кулаке. А начальство все продажное, шкуры, весь их «левак» мне известен, я их крепко под уздцы прихватил.
Так, умом своим маленьким, но пытливым и осторожным уяснил Кирьян, что происходит он из рода таинственного, природой своей нравственной чуждой тому жизненному укладу, что возобладал в жизни нынешнего людского сообщества, и что законы сообщества этого соблюдать надобно лишь напоказ, дабы выжить, а внутри себя надлежит быть свободным и задуманное вершить тайно, хитро и умело, никому не веря, никого ни о чем не прося и пустыми страхами не терзаясь.
Жизнь казалась ему безбрежным солнечным счастьем. И опоры ее были святы и неразменны: дом, семья, хозяйство. Но были и иные радости: бесконечные открытия, которые дарила тайга, сроднившаяся с ним, и книги, его друзья, открывавшие перед внутренним взором его иные миры, где жили люди, которых он не встречал на земле.
Эскалатор повлек его вниз, в гранитно-мраморные хоромы метрополитена, заполненные гулом электричек, хлопаньем пневматических дверей, шорохом людского водоворота, но привычная картина этого мертвенно сияющего подземелья внезапно затмила картина иная, выплывшая ненароком из памяти – волшебного склада пережитого, забвенного и незабвенного бытия, архива одного владельца.