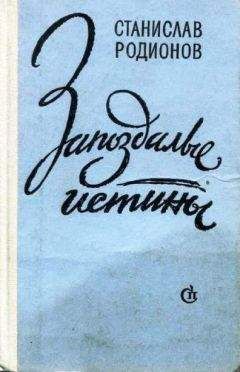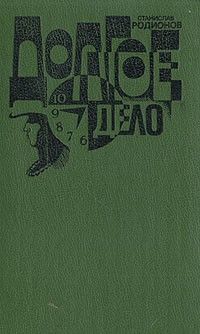— Это я про нас, — хотел усмехнуться и Рябинин, но добрый стакан воды скатился на него со шляпы инспектора и хлестнул по очкам.
И Рябинин задумался, вспоминая и запоминая, чтобы потом записать в дневник…
Я знал старика, берущего заскорузлыми пальцами буханку хлеба осторожно, как спелёнутого младенца. Старик говорил… В жизни сперва идёт главное, а за ним второстепенное; сперва мужик, потом баба; сперва щи, потом каша; сперва сталь, цветные металлы погодя… А впереди того, что идёт сперва, будет хлеб, потому что он всему голова, а остальное лишь головочки. Кто первооснову хлебную не понимает, тот дурак, прости господи…
Я знал старуху, пережившую ленинградскую блокаду, которая ничего не говорила, но все послевоенные годы, каждый день, каждый раз, до самой смерти, отрезав кусок привольного хлеба, тихо плакала незаметными слезами…
Рябинин уже не мог думать о других делах — гора хлеба стояла перед глазами, как стоит перед ними ослепившее их солнце. И, кончив писать протокол осмотра, он поехал с инспекторами в заозёрный Посёлок…
Леденцова с машиной они оставили у водопроводной колонки и теперь бродили по Посёлку уже не боясь ни луж, ни грязи, потому что в ботинках свободно хлюпала жидкая земля.
Это называлось «работать по горячим следам», или, как шутил Петельников, «по горелым следам». Они расспрашивали прохожих, заходили в дома, разглядывали на мокрой земле отпечатки протекторов… Но самосвала никто не приметил, хлеба горелого никто не видел и вроде бы никто ничего не знал.
Петельников поёжился от пригоршни брызг, брошенных в лицо ветром с шиферной крыши:
— Не хотел бы тут жить.
— Что так?
— Я люблю определённость.
Рябинин его понял. Ни деревня, ни город. На центральной улице асфальт, а рядом грязь непролазная. Дома просторные, высокие, кирпичные или шлакоблочные — городские дома, но позади сарайчики и огороды. Водопровод есть, но до квартир не доведён — стоят на улицах колонки…
— Сергей, ты вроде бы расстроился? — спросил инспектор, отыскивая в луже место помельче.
— Разве?
— Из-за хлеба?
— Конечно, из-за хлеба.
— Ну, а если бы свалили, допустим, цветные телевизоры? Тоже загрустил бы?
— Нет, — сразу ответил Рябинин, не думая.
— А они подороже хлеба.
— Подороже…
— Сделать их потрудней, чем буханку хлеба.
— Потрудней…
— Ущерб государству был бы покрупней.
— Покрупней…
— Так к чему расстройство?
— Когда найдём преступника, я арестую его.
— Не убийца же.
— Хуже, — убеждённо выдохнул Рябинин.
Инспектор хотел возразить, но полоса злого ветра чуть не сдёрнула его шляпу. Рябинин схватился за очки, удерживая их на мокром скользком лице. Листья, ещё зелёные, отяжелевшие от воды, легко плясали в коротком вихре. Когда секущий ветер ослаб, они огляделись — куда идти? В какие дома стучаться?
— В магазин, — сказал Рябинин. — Прежде чем хлеб вывалить, его могли предложить туда…
Но магазин оказался закрытым. Они потоптались у зелёных деревянных ставен и двух тяжёлых замков, висевших былинно, как на сундуках с добром. Петельников обошёл магазин и повлёк следователя к холмикам колейной грязи:
— Смотри, покрышки самосвала.
— Тут разные…
— Самосвал ехал последним.
— Может, слепок снять? — неуверенно спросил Рябинин у самого себя, разглядывая путаницу следов.
— Нужно узнать, почему закрыт магазин, — решил инспектор.
— Так по случаю выходного дня, — проскрипел сзади какой-то механический голосок.
Старик взялся ниоткуда, может быть, из плоской жёлтой лужи. Он стоял, затерявшись тщедушным телом в широченной спортивной куртке, видимо с плеч внука. Его серое лицо — от годов ли, от тёмных ли туч — ничего не выражало, но глаза не поддались ни летам, ни тучам и светились живо.
— Вы самосвала с хлебом не видели? — взял на себя разговор Петельников.
— Тут их в день прогудит сто, а то и двести. И всяк что-либо везёт.
— Продавщица местная?
— Сантанеиха-то? Последний дом по этой вот улице.
— Сантанеиха — это правильно как? — спросил Рябинин.
— Сантанеева Клавка, вот как…
Возможно, что добывать руды и плавить из них сталь и цветные металлы труднее, чем растить хлеб. Возможно, что делать из этих металлов цветные телевизоры сложнее, чем молоть муку и печь хлеб. Возможно. И всё-таки уничтожать цветные телевизоры — это только уничтожать цветные телевизоры. А уничтожать хлеб — это плевать в душу народную…
Леденцов слегка обиделся — его, оперативного работника, оставили сторожем при машине. Он постучал ногой по скатам, опробовал водопроводную колонку и огляделся…
Дома смотрели слезливыми окнами насупленно. Всё кругом почернело и потемнело — земля, крыши, заборы; даже салатные стены, при солнышке весёленькие, теперь казались закоптелыми.
Леденцов выбрал бугорок посуше и тоже насупился, как и слезливый дом. Он бы сюда не поехал, а сделал бы иначе: явился в управление, доложил руководству, образовал оперативную группу, инспектора рассыпались бы по хлебозаводам… Нашли бы.
Он зевнул — не от холода, не от сырости, не от одиночества; зевнул от того преступления, которым предстояло заниматься. Буханки хлеба высыпали в траву… Даже не булку. А в соседнем райотделе ребята ловят инопланетянина, показывающего за деньги складную летающую тарелку, которую он носит в чемоданчике-дипломате. В другом районе ребята занимаются аспирантом, взломавшим квартиру своего научного руководителя и укравшим чужую диссертацию. В третьем районе шайка дельцов ворует собак и дерёт шкуры на шапки…
Старик, которого дождь шатал, никак не мог справиться с пружинящей ручкой колонки. Леденцов подошёл, прижал металлический штырь, и вода брызнула несильной простуженной струёй.
— Дедуль, сколько годков? — громко спросил Леденцов.
— Что кричишь, как дитю или идиоту?
— Гражданин, сколько вам лет? — понизил голос инспектор.
— Если для ровного счёту, то семь десятков.
— А если не для ровного?
— То прибавь годок.
— Ого!
— Чтоб это узнать, и приехал?
— Дедуля, мы интересуемся машиной с хлебом…
— Твои корешки уже пытали….
— Ну, так не видели?
— Тут этих машин шныряет, глаз не хватит…
— Дедуля, а самосвал?
— Подходил вчерась какой-то под брезентом к магазину.
— А что под брезентом?
— Я ж не акробат, по кузовам не лазаю. Но хлебом от него попахивало.
От неожиданной удачи Леденцов позабыл заготовленные вопросы. Но старик помог сам:
— Про хлебный дух и старуха моя подтвердит.
— Номера машины не запомнили?
— Числа-то нонешнего не помню, — буркнул дед.
— Моим товарищам про это сказали?
— В момент не сообразил. А за вёдра взялся — и память как осветило.
Леденцова тоже осветило радостью — у него у первого появилась информация, которой не было ни у старшего инспектора, ни у следователя. Его позабыли у машины, им пренебрегли, но он и тут, не отходя, добыл оперативные сведения.
Леденцов схватил полные вёдра и понёс их почти бегом, не разбирая дороги. О старике он вспомнил лишь потому, что не знал, куда нести воду.
— Здоров ты, — дед отдышался и ткнул пальцем в сторону маленького домика, ветхого, как и хозяин.
Леденцов поднял вёдра на крыльцо, до самых дверей, и птицей слетел на землю.
— Твои пошедши к продавщице, к Сантанеихе, — угадал его желание старик.
— Ещё раз спасибо, дедуля.
— А на добавку будет тебе совет…
Старик даже сошёл с крыльца и своими живыми глазками въелся в глаза инспектора. Леденцов нетерпеливо чавкнул ботинком:
— Какой совет, дедуля?
— Вам надобно пойти по хрюку.
— По какому хрюку?
— По поросячьему.
— Дедуля не понял… Мы интересуемся самосвалом с хлебом.
— Дедуля всё понял.
— Тогда зачем по этому… по хрюку?
— Хрюшки бы чего и шепнули.
— Дедуля, мы есть орган власти, а вы поросячьи шутки отпускаете.
— Молод ты ещё для органа, — озлился старик и пошёл в дом, глухо топая по сырым ступенькам.
И Леденцов подумал, что семьдесят один есть семьдесят один.
Я шёл за хлебом. У булочной остановился, как инопланетный корабль, бесконечно длинный сияющий автобус с интуристами. Распахнулась его дверь, и люди с сумками, сетками и мешками ринулись в магазин. Операция длилась минут десять… Когда автобус победно отъехал, я вошёл в булочную — полки были пусты. Ни буханки, ни батончика, ни бубличка. Как голодом всё вымело…
Пусть иностранцы поедят нашего хлеба.
Они ожидали найти усадьбу: двухэтажный дом, пристройки, стога, скотину… Дом Сантанеихи, небольшой и приземистый, как амбар с окнами, стоял на отшибе, у подступающих сосен — можно было подъехать из лесу по просёлочной дороге к самым воротам, не показываясь в Посёлке. Вокруг ни деревьев, ни строений — лишь кусты да сиротливый сарайчик за домом.