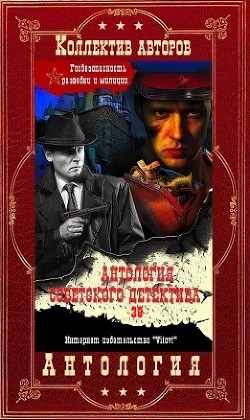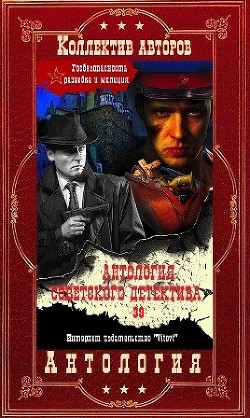Глава 31
Мы затаились. До немоты обозленные немцы впихнули остатки шестерки в свинцовый ящик, еще более утвердившись в мысли, что те, кого они ищут, совсем рядом с ними. Спрятаться в самом городе было невозможно, бежать из него опасно. Спасало бездействие, но и оно вело к провалу. Круг сужался. Изучали тех, кто прибыл в город одновременно с появлением рации в Гридневских лесах. Из обширного списка мы пока выпадали, это еще держало нас на плаву. Но через месяц, через три недели повторный поиск втащил бы нас в раскинутую сеть. Анна, я знал, на службу уже не ходит, но и с Петром Ильичом не встречается. А тот совсем притих. В карты не играл, прекратил и работу, то есть не приносил мне сведений о передислокации дивизий. Да и кому они нужны были, эти сведения? На той стороне фронта в лагерях для военнопленных хлебали баланду сотни обер-лейтенантов и оберстов, допрашивать их было проще, чем посылать людей на связь с нами.
Однажды в кабинет мой заглянул Валецки, дурашливо поблагодарил за ужин, присвистнул, увидев на стене (под стеклом, в рамочке) славословия по адресу «Хофа», собственноручно написанные генерал-лейтенантом Майзелем. Посочувствовал мне:
— Ума не приложу, как жить-то вам дальше… Фронт выравнивается, а это значит, что недалек тот день, когда комиссары будут здесь пить за победу русского оружия… Если вы останетесь, а не уйдете с нами, то вам придется искать советского Химмеля…
В конце сентября это было, в какой-то торжественный для немцев день (опять германская дата!), потому что пришел Валецки в черном парадном мундире. Я его видел в нем недели три назад, 2 сентября, в День Седана.
— Вряд ли я найду его…
— Вы правы: не найдете. Порядки у русских жестокие, вы их, конечно, знаете. Это сейчас, когда маятник покачнулся, обнаружилось, до чего ж мы, немцы, мягкотелые и терпеливые…
— Не порите горячку! — заорал Химмель, когда я передал ему этот разговор. — Георг Валецки — мой земляк, наши дети ходили в одну и ту же школу. И не тряситесь! Главный страх еще впереди!
Скорее по привычке, чем по нужде, Петр Ильич извлекал из присылаемых ему бумаг когда-то интересовавшие меня данные. О станках, к примеру, что надо срочно вывозить в Германию, над которой висели бомбардировщики союзников. Он принес мне эти данные, никому уже не нужные. О чем и было ему сказано.
— Не нужные, — согласился он. И повторил с горечью: — Не нужные…
Слово прозвучало, и слово напоминало о нашей собственной нужности. Зачем мы здесь? Как оказались? И зачем вообще родились? Для чего жили?
В излюбленном месте своем, у окна, перед старым парком, стоял он, спиной ко мне.
— Нет, не зря… — проговорил он. — Не зря все это… Земля, политая потом и кровью предков… И мой пот будет, и моя кровь…
На предложение уходить немедленно — ответил:
— Уже скоро, скоро… Один документ составлю — и распрощаюсь с тобой… Один документ… Ты про Аню не забудь. Защити ее. Спаси.
Впервые заговорил он о ней. Стыдился, наверное, слабости своей, ошибкою представлялась уже любовь эта и особенно десять дней сплошной этой любви, когда распахнул себя, вытряхнул из души все то, что должно в душе оставаться неподвижным. Опустошил себя — и не наполнил женщиною душу. Жил с тайной о себе — и оказался без тайны.
— Ты найди ее… Ей плохо.
Я нашел ее в затхлой комнатенке покосившегося дома. Старуха, открывшая дверь, проворчала что-то пакостное, старик громко выразил надежду, что видит пана (меня) в последний раз. Анна сидела в углу, спокойная, величавая даже. На столе — справки, документы и немного денег — для пресечения любопытства полиции. Лицо желтое, глаза тусклые, на лбу — пятна.
— Я теперь не одна, — сказала она, погладив себя по животу. — И мне теперь наплевать на ваши дела. Но ты обязан мне помочь. Меня надо вытащить отсюда. Здесь я рожать не могу.
Что ж, каждому свое. Шла война, и вечная проблема — жить или не жить — то притуплялась миллионами смертей, то обострялась одной-единственной жертвой. Природа о будущем людей знала больше, чем сами люди. Немцы обычно давали солдатам отпуска в дни, когда лона их жен наиболее способны были принимать мужское семя, — так в годы массовых смертей зеленели посевы, всходы будущих жертв. А потом немецкие врачи с удивлением узнали, что не надо выгадывать и заблаговременно списываться с командованием воинских частей. Организмы женщин перестраивались в с читаные минуты, едва винтовка за спиной отпускника пересекала порог дома, и плодородное поле вбирало в себя зерно вне всяких сезонных сроков.
Вот и Анна перестроилась. Ей не нужен был отныне Петр Ильич. В нем таилась гибель тому комочку, что ворочался в чреве ее.
Но куда ее увозить — я не знал. Не на подстилке в хлеву рожать же ей, не в стоге сена. И не здесь, в этой комнате. И не в этом городе. Спасая ребенка, она могла выдать всех — Петра Ильича, меня. Нет Игната, нет старухи, а она помогла бы, увела бы Анну из города, нашла бы ей убежище.
Но безвыходных положений нет. Сделать ей хорошие документы не так уж сложно, переправить в Варшаву труда не представляет, а там уж — по адресам Игната, три верные явки, где-нибудь да приголубят. Надо лишь дождаться варшавского связного Игната.
Вдруг связной сам появился — и последние надежды рухнули.
Под вечер произошло это, был я дома, в комнате, окна которой смотрели на старый парк, и на первые выстрелы внимания я не обратил: стреляли теперь часто. Потом взял бинокль и увидел: против окон Петра Ильича стоит связник и лупит из пистолета по стеклам. Длинный пиджак перепоясан веревкой, козырек кепки повернут назад. Парень перебегал от дерева к дереву, пока не встал так, чтоб видеть его мог не только Петр Ильич, но и я. Когда на бульвар выкатил мотоцикл с автоматчиком в коляске, связник двумя выстрелами повалил обоих. Видимо, это был ученик Игната, стрелял он мастерски, и сквозь автоматные трески подъехавшего на грузовике взвода различались сухие, громкие, бухающие звуки: парень стрелял из «виса», любимого пистолета Игната. Убедившись наконец, что в доме все его увидели, он стал отходить на другую сторону парка, к моему дому. Здесь его и подстрелили. Он споткнулся, упал. С пяти метров автоматчик раздергал его тело очередью в упор, но и тогда жизнь не покинула парня. Носок его ботинка чиркнул по булыжнику, парень шевельнулся, нашел в себе силы приподняться и сделать ползучее движение в мою сторону. Автоматчик, несколько удивленный, потянул с плеча уже закинутый автомат и вогнал еще одну очередь в живучего поляка. Повернулся и пошел. А из подъезда выбралась, загнанная туда выстрелами, немецкая мамаша с ребенком. Приблизилась к убитому и плюнула на него. Ребенок осмелел, плюнул тоже, хотя продолжал крепко держаться за руку матери.
На крайнем окне квартиры Петра Ильича штора поехала вправо, до упора, это означало приглашение заходить.
— Куда? — спросил он, и ответа не было. Уходить — некуда. За связником — это уж точно — шли от самой Варшавы, он поэтому и приблизиться ко мне не мог, выдать боялся, и выстрелами под окнами давал ясно понять: путь в Варшаву перекрыт, явки под контролем немцев. Надежда на случай? Побег, так сказать, экспромтом?
— Тебе ведь придется когда-нибудь писать отчет, — напомнил Петр Ильич. — Что делал, с кем был, какая связь… Так ты не пиши того, что нельзя подтвердить документом.
Вялый, опустошенный, тягучий… Об Анне не спрашивал. Да и что отвечать ему?
— Я письмо написал. Вот оно. Ты его сохрани как-нибудь.
Письмо я сунул в карман. И знал, что сохранить его, донести до тех, кому оно написано, уже невозможно.
И еще двое суток прошло. Он не трогался с места. Было, видимо, оцепенение жертвы, пронзительное ощущение того, что эти, сейчас протекающие минуты — последние и надо насладиться ими сполна. Еще не иссякли силы, а уже пропадала решимость пробудиться, встать, ринуться в бой, погибнуть, но — стоя, с оружием. А может быть, Петр Ильич оцепенением своим вводил в заблуждение немцев, прикидывался мертвым, чтоб внезапно превратиться в живого.