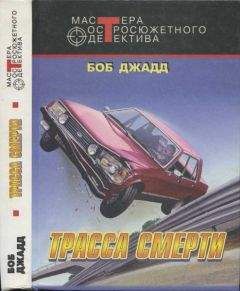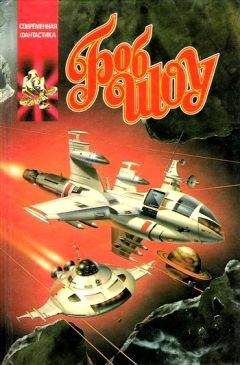Я решил, что слева, и стал подниматься по склону холма к дороге.
Проснулась Салли.
— Куда, к дьяволу, мы идем? — спросила она.
— К нашей машине.
— Ты сошел с ума, Эверс, — сказала она. — Ты что, забыл, что вместе с твоими штанами они забрали и ключи от машины? Или у тебя есть запасные, спрятанные в тайнике?
— Да, действительно, нам придется голосовать.
— Да, это просто блестящая идея, дубовая ты голова. Голосовать! Ты поражаешь меня, бестолковый интеллектуал. Ты упустил одну небольшую деталь, что мы не на шоссейной магистрали! Здесь едва ли одна машина проезжает за четыре-пять часов.
В ее голосе появились истерические нотки. И начался бред.
— Слушайся меня, малыш, и будь осторожен, не убегай далеко, а то тебя раздавят, как жука; не играй на дороге, иначе я тебя хорошенько отшлепаю, — бормотала Салли. — Ты лучше играй здесь, поблизости от ручья, тут я могу следить за тобой. Если выйдешь на дорогу, мама тебя как следует отшлепает, слышишь? Испеки пирожки из песка, пока не пришел папа. Займись чем-нибудь, а то я накажу тебя.
— Смотри, Салли, машина, — сказал я. Над холмами, приближаясь к нам, поднимался столб пыли.
— Мама, на дороге уже два дня не было ни одной машины. Подними меня, я хочу посмотреть, кто там едет. Я знаю папину машину, может быть, это папа?
Машина поднялась на верхушку холма — это был большой белый «кадиллак» с опущенным верхом. Я встал посреди дороги, а Салли, одной рукой обнимая меня за шею, другой отчаянно размахивая, кричала: «Папа, папа! Папа вернулся!»
Сидевшая за рулем женщина с маленьким круглым личиком и голубыми прядями волос, в изумлении разинув рот, смотрела на нас, вцепившись в руль обеими руками. Она не замедлила скорость и даже слегка вильнула в нашу сторону, так что мне пришлось в последний момент отступить, чтобы не попасть под машину.
Салли продолжала махать рукой и кричать: «Папа! Папа!», но белый «кадиллак» уже промчался мимо, и голубые волосы были едва видны над спинкой сиденья. Машина поднялась на вершину следующего холма и исчезла из виду, оставив за собой облако пыли, и в пустыне вновь воцарилась тишина.
— Похоже, мы не выглядим как идеальные попутчики, — сказал я, думая, что, если нам сильно повезет, эта голубоволосая дама в «кадиллаке» хотя бы сообщит о нас в полицию.
— Папа, — произнесла Салли совершенно детским голосом, положив подбородок мне на плечо, — пожалуйста, пойдем домой.
Я не знал, как далеко мы находились от фургона Салли. По крайней мере, за милю или две. Я повернулся и пошел по дороге, одну за другой переставляя обмотанные тряпками ноги.
— Мы скоро будем дома, дорогая.
Ее голос отдавался глухо, как в большой и темной пещере. Он звучал как манящее обещание теплоты, надежды и желания. Я не мог разобрать слов. Но вот она сбросила с меня одеяло и сказала:
— Ну, вставайте же, лентяй. Мистер Эверс, пора вставать — вам сегодня выписываться.
Мне доводилось спать в сыром фургоне, стоявшем позади сарая в Букингеме, в постели, пахнущей сыростью. И лежавшая рядом женщина с пухлыми ручками и мягкими бедрами, с защищенной в Кембридже ученой степенью по химии, желавшая стать автогонщицей, шептала мне на ухо: «Еще раз, ну еще разок!» Мне доводилось спать и в первоклассном отеле в Лондоне, где обо мне знали еще до того, как я зарегистрировался. Приходилось спать и в Шато-де-Шандон, в кровати в виде ладьи, где, как нашептывала мне на ухо герцогиня, Наполеон занимался любовью с дамой из ее рода. Я спал в кровати, похожей на туннель, где мы — я и моя бывшая жена — лежали, прижавшись каждый к своему краю, так плотно, как спасшиеся во время кораблекрушения прижимаются к доскам плота. Мне случалось, бывало, спать в мотелях Австралии, в отелях для яхтсменов во Флориде, на туристических базах в Греции, в роскошных пятизвездочных гостиницах Австрии. А бывало и так, как, например, было в Форд-Англии в Португалии, где я спал в одной кровати со своим механиком Майком, у которого волосы в бороде блестели от смазочного масла, и он во сне шептал мне в ухо: «Сьюзи, дорогая».
В Японии мне приходилось спать в комнате, устланной татами, и японка развязывала на мне кимоно так бережно, как будто я был сделан из драгоценного фарфора. Где-то на берегу Индийского океана я спал в гамаке, а в это время красные муравьи чистили мне на ногах ногти. Я спал и в бесчисленных бетонных гаражах для гоночных машин с дырявыми толевыми крышами, которые протекали, если шел дождь. А когда-то, еще до эпохи СПИДа, мне пришлось спать в Барселоне на мягкой пуховой перине с женщиной, которая уверяла меня, что ее зовут Кармен. Она склонялась ко мне в облаке духов, и ее груди раскачивались надо мной, как церковные колокола, а между ними болтался золотой крестик. Но самые странные ночи я проводил, бывало, на больничных койках с боковыми прутьями, где санитарки поправляли на мне одеяло, а мне снились кошмарные сны из времен моего детства.
Так что я привык спать в незнакомых кроватях. И все же мне потребовалось некоторое время, прежде чем мои неохотно открывшиеся глаза стали различать белоснежное пятно халата, находившееся на уровне моих колен, занавески, висевшие вокруг моей койки, и, наконец, высоченную женщину с волосами стального цвета и лицом, напоминающим лицо президента Джорджа Буша. Она держала в руках мое синее одеяло. Потребовалось еще несколько секунд, чтобы я осознал, что нахожусь в больнице Финикса.
Голова у меня болела, кожа горела, а по ногам как будто основательно прошлись бейсбольной битой.
— Как чувствует себя Салли? — спросил я.
Когда нас привезли в больницу, Салли тут же отправили в операционную, а мне обработали ноги и смазали ожоги мазью.
— Вы имеете в виду мисс Кавану? — поправила меня сестра.
— Как она?
— Она лежит на третьем этаже, крыло Е. Когда выпишетесь, сможете навестить ее. Вы можете ходить? — Сестра принесла мне пару алюминиевых костылей.
Салли лежала на боку, спиной ко мне. Плотно завернувшись в простыню, она глядела в окно. Я сел на край койки и положил ей руку на плечо.
— Ну, как ты себя чувствуешь?
— Чувствую, что хотела бы, чтобы ты ушел и никогда не возвращался.
— Болит?
— Да, болит. Врачи говорят, что они сделают еще анализы, и, если кожа на виске не заживет, они возьмут лоскут с моей задницы и пересадят на голову. Но не сразу. Сначала должна нарасти ткань на поврежденном месте — на это потребуется время, и только потом пересадят новую поверх этой. Так что теперь я буду ходить с кожей от задницы на голове и рубцами на заднице. Ты удовлетворен моим ответом?
Я попытался что-то придумать, чтобы разрядить обстановку, но единственное, что сумел из себя выдавить, это:
— Прости меня.
— Ладно. Слушай, Эверс, ты так надоел мне с этим «прости» — возьми его с собой и убирайся отсюда. Ты прекрасно знаешь, что я ненавижу любого, кто начинает меня жалеть. Я вовсе не хочу тебя обидеть, — сказала она, повернувшись ко мне лицом, правая сторона которого была забинтована, но левая выглядела вполне сносно. — Но, скажу прямо, единственное, что от тебя было хорошего, — это то, когда мы трахались.
Иногда бывает трудно сохранить благодушие. Однако я попытался.
— Ты тоже была ничего, — ответил я.
— Это дело рук Бобби, — сказала она, опершись локтем на подушку и сверля меня своими голубыми глазами. — Я хорошо его знаю. Мне известен любой ход его мыслей. Но теперь мне не важно, что будет дальше. Мне только хочется оторвать ему голову и посмотреть, как она покатится по улице. Мне будет приятно это наблюдать. А еще хочу, чтобы ты больше не приближался ко мне. Ладно?
— Ну, а в каком состоянии у тебя другие места? — спросил я, сунув руку ей под одеяло.
Она подскочила как ошпаренная.
— Черт бы тебя побрал, — воскликнула она. — Уйди прочь. Папу я тоже прогнала. Может быть, ты не знаешь — этого нет в его официальной биографии. Он начал свою карьеру работником связи в городе Цицерон — это в Иллинойсе — и до сих пор сохранил знакомства в высоких кругах. И у меня тоже там есть связи. Так что, если мне потребуется помощь, стоит мне поднять телефонную трубку, и орудия откроют огонь, как во Вторую мировую войну. — Она замолчала и вдруг улыбнулась. — Что-то правый глаз у меня плохо видит. Ну и рожа, правда?
Я поцеловал ее в здоровую щеку.
В помещении полицейского управления и общественной безопасности, на улице Вест-Вашингтон 620, окна были проделаны в пуленепробиваемых бетонных блоках. Внутри было довольно мило, если вы не имеете ничего против коричневого линолеума. Когда сюда явился обожженный солнцем рядовой член общества, шаркая по полу теннисными, не по размеру большими туфлями, он был встречен приветливым возгласом: «Чем можем быть вам полезны, сэр?» Этот вопрос задал мне, дружески улыбаясь, сидевший в вестибюле за конторкой двадцатипятилетний молодой человек в полицейской форме. Он улыбался, потому что знал, что все психопаты, бандиты, алкаши, сутенеры, хулиганы, растлители малолетних, насильники, мужья, избивающие жен, и прочее содержимое полицейских машин поступает в другое место — помещение за несколькими стальными дверями. Улыбка полицейского тут же сменилась выражением сочувствия, когда он присмотрелся к моему лицу.