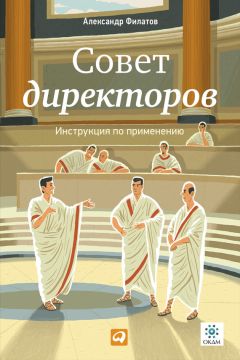Надо отметить, что сразу после развода с Аленой я ощутил невероятную творческую силу. Меня больше не смущало, что мастерства для моего проекта у меня явно не хватает. Я был уверен, что теперь мне все по плечу — я могу полноценно творить, как во сне, так и наяву. Собственно, затем я и прибыл в Москву, чтобы познакомиться с новыми течениями в современной живописи, о которых так много писали в СМИ. Ничего полезного для себя я не нашел, кроме типичного московского пижонства с претензиями на оригинальность. Отечественная живопись собралась, кажется, пойти по западному пути, с непременным разрушением классической школы. Этот процесс начали шестидесятники, и если бы не Никита Сергеевич, художественной классической школы давно бы уже не было.
В шестидесятых художники настолько ударились в модернизм, что к живописцам, работающим в традиционной манере, относились с презрительной усмешкой. Только где они, все эти горлопаны-авангардисты? Осталось хотя бы одно имя? Осталась хотя бы одна картина? Ничего не осталось. Сплошная пустота. А имен художников классической школы можно назвать сколько угодно.
Обойдя выставочные залы, я с грустью отметил, что это смутное время решило взять реванш в войне пластмассовых роз с живыми, и прежде всего потому, что настоящие художники ушли в коммерцию. Их место заняли авангардисты-любители, вытеснив профессионалов из выставочных залов на улицу, где они некогда обитали сами. Глядя на их художества, я с грустью думал, что у Сальвадора Дали ещё можно найти какое-то подобие метафоры, здесь же — сплошной перевод краски. Все это явно ориентировано на несведущих в живописи иностранцев.
Словом, я вернулся домой ни с чем, если не считать неожиданной болезни Пигмалиона.
В первые же сутки моего приезда я нарисовал тридцать женских портретов, но ни один ни черта не годился. Видимо, душа моя была весьма щепетильна в вопросах женских прелестей. Чтобы как-то успокоиться, я сшил из поролона куклу, обтянул её китайским шелком, и тем самым вытащил свою мечту из условностей двумерного пространства. Но лучше бы я этого не делал, потому что в ту же минуту я её с ненавистью раскрошил в клочья.
Кажется, после этой экзекуции у меня вырвался гомерический смешок и я, рухнув носом в подушку, впал в классический ступор. Блажь не проходила. Кукла, приближенная к моему идеалу, всю ночь маячила перед глазами и не давала уснуть. Я курил, ворочался, пытаясь высмеять откуда-то взявшееся волнение, но к утру внезапно понял, что желание увидеть свой идеал воочию никакая не блажь, а как раз та самая роковая ступень в познании самого себя. Только когда я вылеплю женщину, которая хотя бы зрительно удовлетворит мою внутреннюю сущность, тогда наконец-то пойму, чту я стою в этом мире в качестве человека.
Я видел много красивых женщин, но у каждой подмечал какой-нибудь досадный недостаток. Мне же пришло в голову изваять свою Галатею без единого изъяна. Такая мысль успокоила, и я решил себе выделить на эту работу всего одну неделю. Но неделя растянулась на долгие шесть лет.
Да-да, время имеет привычку насмехаться над художником, если художнику невдомек, что искусство существует вне времени. Планировать что-либо в этом мире ему крайне непростительно, потому что если действительно кто не наблюдает часов, так это творцы.
Этих шести лет, пролетевших одной минутой, я просто не заметил. Это был второй пьяный угар. Еще ни над чем я не работал с таким упоением, как над этой куклой. Я забывал о сне, еде, питье; путал времена года и время суток. И теперь, вспоминая свою неистовую одержимость в стремлении увидеть свой идеал воочию, понимаю, насколько я тронулся умом.
Сколько же было моделей? Кажется, восемь! И всех их постигла участь первой моей поролоновой куклы. И лишь девятая мне показалась более-менее удовлетворительной.
Должно быть, то, что я делал, походило на безумие. Я доставал самую наитончайшую, наимягчайшую кожу, вываривал, выпаривал, выделывал её кислотой — и с раздражением выбрасывал в мусоропровод. Материал, который был мне нужен, я купил потом в Китае. Однако, чтобы ездить по китаям и тайваням, мне приходилось «челночить» круглый год бок о бок с теми же самыми торгашами, которых я презирал. Но кожа наконец была добыта, и был найден нужной упругости поролон.
Древние ваяли скульптуры столь тщательно, что высекали на мраморном теле каждую пору. По скрупулезности я превзошел греков. Я вшил в её шелковую кожицу не только тонюсенькие волоски, но и распределил на ушках и над верхней губкой едва заметный золотой пушок. Я сотворил для неё роскошные льняные волосы, длинные ресницы, тонкие брови. Много остроумия потребовалось на создание глаз, чтобы они были блестящими и слегка водянистыми, чтобы иной раз по щеке скатывалась слеза и на вкус она была соленой.
Кожа её была тонка, и сквозь неё просвечивали вены, в которых находилась нагревательная система. Ведь моя прелесть излучала настоящее человеческое тепло и даже показывала на градуснике температуру тридцать шесть и шесть. Все это работало от одной полуторавольтовой батарейки.
У неё билось сердце, и грудная клетка едва заметно поднималась. Для непосвященного создавалась иллюзия, будто она дышит. На самом деле это были чудеса электротехники. Ее тонюсенькие пальчики были холодны, но стоило их с минуту подержать в ладонях, как они начинали теплеть, и становились слегка влажными. Это тоже было моим изобретением.
Но все электротехнические эффекты были детским лепетом в сравнении с тем, сколько сил я затратил на то, чтобы из пор её кожи выделялись крохотные капельки пота, пахнущие самой очаровательной женщиной. Именно на это я ухлопал целых два года, перечитав с десяток парфюмерных книг и тщательно обнюхав все галантерейные лавки Парижа. Словом, Галатея удалась.
И когда она была готова полностью, я усадил её на стул и, наконец, позволил себе взглянуть на неё глазами простого смертного. Без преувеличения могу сказать, что первые две минуты я пребывал в шоке. Мой внутренний цензор не отметил в ней никаких недостатков, и от этого душа наполнилась светлым восторгом. Она действительно была мила, моя Галатея, этакое сочетание изящества и нежности, что редко бывает в действительности: задумчивый взгляд, пухленькие губки, кругленькие щечки… Стан её был тонок и грациозен, бедра круглы и упруги, ножка до обалдения маленькой.
«Вот он, мой идеал воочию», — думал я в тот вечер. И боялся найти в ней какой-нибудь изъян. Но больше боялся не найти и, как назло, не находил. От этого по жилам опять расползалась тягучая вселенская грусть.
Было нетрудно догадаться, откуда шла эта грусть. Работая над Галатеей, я был в состоянии сна. Теперь нужно было просыпаться, озираться по сторонам, глядеть правде в глаза. Пьяный угар заканчивался, начиналось похмелье. А снова вползать в реальность так не хотелось, потому с таким волнением я и выискивал в ней недостатки. Но их не было. А мне уже сорок один. На Земле последний год тысячелетия. С чем человечество войдет в двадцать первый век? Я же ничего не успел!
Этим мыслям я не дал распространяться. Если в голове и мелькнуло что-то типа прозрения, то, вероятно, подсознательно. Так же подсознательно я решил не просыпаться. И следующий этап моего сумасшествия заключался в поисках нарядов для нее.
Я купил в антикварном магазине роскошное старинное кресло из красного дерева и одел её в шикарное французское платье с алой розой на бедре. Я украсил её тонкую шею жемчужным колье и вдел в мочки ушек длинные брильянтовые сережки. А какие деньги я отвалил на тончайшее белье из шелковых кружев… Черт!
Мне приходилось ишачить круглые сутки, чтобы одеть её столь роскошно. Но это потом. А поначалу деньги мне доставались без особого труда. Я ещё удивлялся: чем меньше на них обращаешь внимания, с тем большей легкостью они достаются. Когда я был холостым, они мне были практически не нужны. Я никогда не думал о деньгах. Они мне начали засорять мозги только после того, как я женился, и то потому, что о них постоянно напоминала жена. Помнится, мне перепадали сущие гроши, которые доставались довольно-таки тяжело. Не потому ли, что их так алчно жаждала Алиса? Вторая жена жаждала банкноты не столь алчно, как первая, и они доставались мне значительно легче и в большем количестве, хотя по-прежнему отнимали значительную часть времени. По этому поводу у меня даже родилось двустишие в подражание Пушкину: «Чем меньше денежки мы любим, тем легче нравимся мы им».
В период, когда я работал над Галатеей, добыча денег у меня вообще не отнимала времени. Я приобретал их попутно, как дельфин. Если человек на свой прокорм тратит треть своей жизни, дельфины не тратят ни минуты. Они питаются тем, что попадается на пути. Так и я.
Началось все с того, что мой знакомый, который свел меня с Роговым, попросил привезти из Москвы две коробки гематогена. Я привез. И он заплатил мне вдвое больше, чем я затратил на его приобретение. При этом добавил, что если появится возможность повторить процедуру, то он будет счастлив. Процедуру я повторил. И неоднократно. Всякий раз, когда мне нужно было удвоить капитал, я ехал в Москву на аптечный склад и брал гематогена столько, сколько мог увезти на такси. Работа над Галатеей с каждым месяцем требовала все больших затрат, и я, кроме гематогена, начал прихватывать какие-то лекарства. Через полгода неожиданно для себя я стал богатым человеком. Но деньги я по-прежнему расходовал только на Галатею.